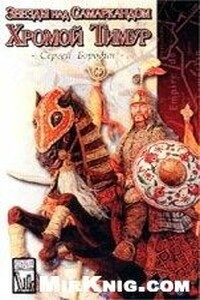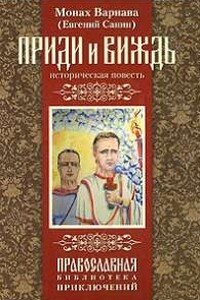— Приспело время!
И побежал к постелям, где под присмотром отроков лежала княжеская одежда.
— Боброк! Время надо выгадать. Не робеть, скликать всех немедля!
Владимир крикнул подбежавшему воину:
— Прикажи седлать! Охота пущай за нами ворочается.
Дмитрий поднимал спутников:
— Тарусский, Белозерский, Бренко! Вставайте! Скачем на Москву!
— Что ты, княже?
— Татары сожгли Нижний.
— А князь Дмитрий Константинович? — спросил Тарусский.
— Жив мой тестюшка, — отмахнулся Дмитрий. — В заокские леса утек! — И кинулся к коню, которого вели из-под лесной прохлады.
Дмитрий поскакал, не щадя ни коня, ни плети. Ветви хлестали по плечам. Незастегнутая ферязь развевалась позади; спутники едва поспевали за ним. Он кричал, не оборачиваясь, Боброку:
— Довольно кланяться! Настало время биться! Откланялись!
Позади, отстав, возвращалась на Москву охота. Последние всадники скрылись в деревьях. Еще чадили угли покинутых костров. Среди поляны одиноко стоял ветхий пастырь. И посох, коего здесь не приравняли к копью, дрожал в руках, еще жаждущих битвы.
С начет лесом гонец из Москвы в Троицу.
Как медведица шерстью, Русь густо заросла лесами. Леса стояли сырые, дремучие, из края в край по всей Русской земле.
Земля была влажной, реки полноводны и обильны рыбой, дороги непроходимы; не дороги — тропы. Коннику те дороги гожи, пешему — хороши, но колесам неодолимы: и в ведрое-то лето вязли колеса в колеях, а задождит — не вылезешь. Но дорога, как палка о двух концах: тяжела лесная колея русскому колесу, а вражьему степному сброду и совсем нету в лесу проходу. Дремучий лес высился плотной стеной, живой городьбой вокруг московских земель.
В темных глухих лесах много таилось зверья и всякой дичины — вепри и лоси, олени, козули и рыси, медведи и волки, белки и лисы, барсуки и бобры, куницы и зайцы. Казалось, что диковинные неодолимые звери и лихая языческая нечисть таятся в дебрях. И беглый человек в лесу ютился, и озорные шайки уходили в лес.
Кто зверя боялся, тот сквозь леса шел днем — днем зверь спит, днем зверь опасается человека.
Кто человека опасался, тот ночью шел — человеку от человека укрыться легче во тьме.
По тем дорогам и версты считали. Далёк был от Москвы город Можай; темным-темны леса разрослись по можайской дороге, а Москвой-рекой путь извилист; Серпухов считали ближе: серпуховской путь понаезженней, посветлей.
И до Троицы не всяк добрести мог: топи, мхи, вековечная заросль, бурелом. Там видимо-невидимо лютого зверья, а местами из земли дым струится — кто-то, видно, свою жизнь пасет. Из-под дубовых замшелых корней текут родники там. И крик в том лесу не откатывается вдаль, а возвращается вспять.
В том глухом лесу поселился Сергий, разоренного ростовского боярина сын, Радонежа-города житель. Ушел от родителей в те леса, выбрал высокое место над водой, на горе Маковце, срубил себе незавидную хороминку захотел обрести тишину. Бортничал ли, рыбу ль ловил, питался ли корнем и орехом, но жил. Лазоревый дым растекался по тишине лесной, а молва о Сергии — по окрестным городам. Не одному ему недоставало в городе спокойствия. Начали к нему стекаться люди, просили пристанища, селились рядом. Каждый своей достачей жил. Сообща поставили церковушку во имя Троицы. А помалу из затхлых землянок в изрядные срубы перешли. Нищее было житье, пока Московский князь про ту обитель сведал. А сведавши, помог. Всея Руси митрополит Алексей уразумел Сергия: бескорыстен, но в замыслах упорен, в писании начитан, но гордыни чужд.
Паче же того оценил митрополит Сергия по единомыслию: сильны у русского народа враги. Татары — с востока, Литва — с заката, свей — с полуночи — всяк норовит оторвать от Руси клок, иные же и сердце норовят нечистой рукой из Руси вырвать. А князья усобятся, Руси не блюдут, только о своем добытке пекутся. Не разумеют, что добыток князя от народа течет. Калита покойник мудр был — понял. На верный путь стал — обиженных привечал, разоренных княжеств жителей жаловал, пограбленным купцам льготы давал. И текли в Москву к Калите, к Симеону, к Ивану, как и к нынешнему Дмитрию, бояре с дружинами, и дети боярские, и житые люди, и беломестцы, и черные люди, смерды. И каждому московские князья на первое время давали свободу от поборов, заказывали подручным князьям, воеводам, наместникам и волостелям не забижать новосельцев.