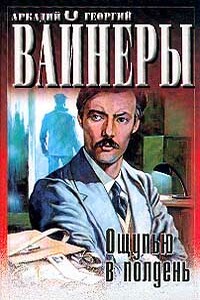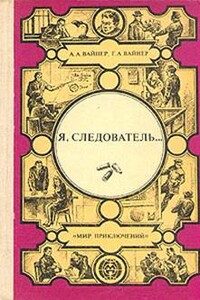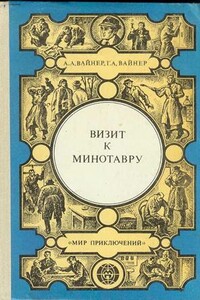От невыносимой духоты перехватывало дух, но Ларионов не чувствовал жары. Он хотел добраться только до света, до людей. На всякий случай вынул из кобуры под мышкой пистолет и переложил его в правый карман пиджака. Ему казалось, что за спиной мелькают тени, слышится чей-то топот, неуверенные шаги или шарканье. Оглядывался, но никого в неверном сумраке разглядеть не мог. Но Ларионов знал, что там кто-то есть, кто-то во мгле злобно существует.
Тогда он побежал. Отравленный воздух со свистом вырывался из легких. Здесь пахло угольной гарью, окаменевшими нечистотами, ржавым металлом. Он бежал вдоль бесконечного бетонного забора, из-за которого были слышны пронзительное мяуканье и затравленный лай. Ларионов вспомнил, что там находится сборник для бродячего зверья, которое отлавливают по городу собачники-душегубы и, формальности ради, держат несколько дней перед тем, как умертвить. И в завывании, мяуканье и лае несчастных животных чувствовалась обреченность.
Когда силы кончились, Ларионов увидел справа впереди желтый, истекающий мятым светом пенал телефонной будки. Ларионов перепрыгнул через развороченный штабель бетонных труб, угодил в какую-то яму с отбросами, чуть не вывихнул ногу и побежал через дорогу. И снова сердце екнуло от испуга, когда Ларионов вспомнил – агент Гобейко дыбом стал, ни за что не соглашался возвращаться вместе с ним к вокзалу. Дундел затравленно, что если их кто-то увидит, до утра ему не дожить. Кто, интересно, мог их увидеть в такой непроглядной мгле?
На разгоряченное лицо Ларионова упала большая теплая капля дождя, с чмоком, как поцеловала. Затем еще одна. Он поднял лицо к небу, низкому, дымно-красному, как печной под. Капли застучали по лицу, по плечам. Ларионов пытался поймать их на язык, потом махнул рукой и побежал быстрее к телефону. Со злобой думал о том, что сейчас любая шваль, любая приблатненная босота ходит с трубочками мобильников – а для их службы денег нет, вы, мол, сами должны, как лоси, быстро бегать…
Он не вынимал руку из правого кармана, судорожно стискивая горячую влажную рукоятку «макарова». Дверь в телефонную будку была сорвана и висела на одной петле, заклинивая проход. Ларионов нажал плечом, отодвинул дверь, протиснулся в тесный объем будки, навсегда провонявшей стоялой пылью, ссаниной, снял трубку и с радостным облегчением услышал гудок. Бросил жетон и быстро набрал номер в отдел. Что-то в аппарате металлически чавкнуло, и поплыли в ухо долгие, неспешные, тягучие гудки ожидания. С оглушительным треском грохотнул над головой ломкий гром. Господи-Исуси, все на этом шарике стало вкривь и вкось! И дождь хлынул плотнее.
Ларионов прижимал трубку к уху плечом, а левую руку выставил из раскрытых дверей наружу, и теплая струистая вода хлестала его в ладонь, и он испытывал острое радостное удовольствие. «Где же вы все? Черт бы вас всех побрал!» – повторял про себя сердито Ларионов, пытаясь понять, почему не отвечает дежурный в отделе, и клянясь, что завтра настучит ему по голове так, чтобы мало не показалось. Потом набрал номер в соседний кабинет к Любчику, там тоже вяло мычали гудки, безнадежно, тягуче, протяжно, и Ларионов с отчаянием представлял себе, как в этом огромном здании безнадежно и безответно дребезжит телефон. Он снова дернул рычаг автомата и стал набирать телефон «02» в дежурную службу городского управления. Расходящийся все сильнее дождь брызгами захлестывал ему в лицо. Ларионов немножко угомонился, умерил бой сердца и расслабился, услышав в трубке голос: «Ноль-два слушает, милиция, говорите…» И от этого голоса, как от кончика протянутого с борта лодки утопающему пловцу веревки, он настолько успокоился, что утратил контроль над ситуацией.
Ларионов совершил оплошность, одну-единственную ошибку, которая людям его профессии обходится очень дорого, – он повернулся спиной к распахнутой стеклянной двери. В телефонной будке нельзя стоять спиной к двери – подходи, подслушивай, подсматривай. Сжимая трубку так, будто решил ее раздавить в пыль, он надсадно крикнул:
– Дежурный! Это Ларионов из «Дивизиона» Ордынцева. Ты меня слышишь?!