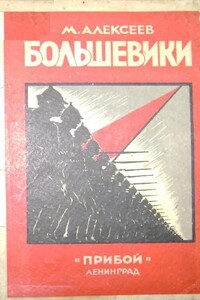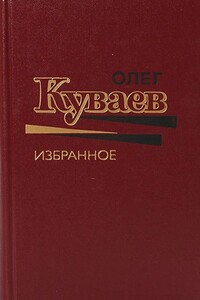— Ну, разве мы люди? — шептал один голос. — Скоты мы, гниль какая-то.
— А ты бы, мил друг Сергеев, к офицерам шел. Все у них лучше. Народ тоже благородный. Это нам, мужикам, не привыкать стать. А ты и сам офицером скоро будешь. Шел бы к ним.
— Эх, Хомутов, друг! Не мило мне все это. Ни то я, ни се. Ведь выгоняют, когда им между собой поговорить нужно.
— А ты не гордись, Сергеев. Не офицер же пока.
— Да, трудно мне. Придешь, а они выгонят.
— Ну уж и выгонят. Тоже скажешь! А теперь у них занятно: тепло, сухо. Халуи те, денщики, жарево и варево наготовили. Питья и яствия всякие. Вот жисть! Эх, малина!
— Друг, Хомутов! Ведь разврат у них один — и только. Разве же я не знаю? Понапиваются, а в обозе уж проститутки ждут. И пойдет! Грязь. А меня заставляют петь. А там, где рояль есть, как в Кале, то играть заставляют. А сами блеют.
— Ну-к что ж, Сергеев? Баба офицерам на потеху дадена Тоже трудов у них много Ну, как не потешить сердечки-то? И благородные они к тому же. Все из дворян, небось?
— Эх ты, невозмутимый! Ведь грязно, гнусно все это. Только развратничать они и умеют. Был между ними один порядочный, да и того ранили. Вряд ли выживет.
— Это что ж, их благородие взводный наш… Соколов?
— Да. Душа-человек. Себя не щадил за родину. Я около был, когда ему пакет принесли с приказом отступать. Так он, уже раненый, с какой досадой обругал их! Предатели, кричит, изменники. А потом уже память потерял.
— Обидно, известно. Айран бы заняли. Как пить дать, заняли. Турки-то уже насандалили пятки. Да, может быть, нужно так отступать? А?
— И откуда, Хомутов, у тебя все такое?.. Все прощаешь. И все вы такие. Головы ложите, в грязи по уши, вошь, блоха, а нет недовольства.
— Дисциплина, друг. Эх, тяжелые слова говоришь, — горячим шопотом произнес Хомутов. Он весь придвинулся к собеседнику и, тяжело дыша, продолжал: — Все понимаем мы, сами видим — да дисциплина. Недовольны тоже были мы и не раз. А что толку? Плетью обуха не перешибешь. Вон в запасном полку были храбрецы, не такие, как ты, — да что толку-то? Говорили справедливые слова против начальства, а мы за ними. Эх, милай! Да что тут говорить! Их-то; военным полевым судом голубчиков в двадцать четыре часа на тот свет без пересадки. А нас — кого в тюрьму, а кого в дисциплинарку. Хуже каторги… А ты говоришь…
— Да я не об этом.
— Не об этом, так о чем же? И говорить-то о другом нечего. Тоже. Покушал горькой жизни немножко, а уже ропщешь. Произведут в офицеры — все забудешь. А мы-то роптали. И в деревне роптали, да исправниковы плети — как не замолчишь?.. Вот что. Волость целую пороли…
Хомутов помолчал и затем вполголоса добавил:
— Будет время — поропщем.
— Да я не о том.
— Не о том, так и нечего сердце растравлять. Один грех с тобой. Наговоришь, а потом каяться будешь.
Собеседники замолчали.
А голос Щеткина продолжал под ругань и смех своим уже звенящим, изливающим желчь голосом:
— А сова не будь глупа: цап за бабу, цап за мужика!
— Ха-ха-ха-ха! — смеялись несколько голосов. — Ну, ну, Щеткин, валяй!
Сергеев, задумавшись, вдруг услышал возле себя гневный шопот Хомутова.
— Аксенов… Ты что это, едят тя мухи с комарами! Ты что, подлец, делаешь?
В ответ послышался судорожный шопот, прерывающийся всхлипываниями:
— Я-а-а-а… Аксинья привиделась…
— Дурак ты, Аксенов, — укоризненно шептал Хомутов. — Погоди, война кончится, ну и натешишься.
Сергеев поднялся, не обращая внимания на ругань, пинки, прямо по солдатским телам быстро зашагал к выходу из палатки.
— И там мерзко и здесь грязно, — шептал он про себя. — Все же пойду в штаб. Там как-никак чище.
* * *
В просторной палатке командира полка, ярко озаренной светом двух керосиновых ламп, на пушистом турецком ковре, постланном на посыпанную желтым песком землю, расселся весь командный состав полка. Офицеры сидели на ковре по-турецки, поджав под себя ноги, а кое-кто и на корточках. В живом, тесном кругу, на больших досках, покрытых двумя простынями, стояли бутылки с коньяком, спиртом, на тарелках лежали куски жареной баранины, консервы, кружки, стаканы, хлеб.
Всего находилось здесь двадцать два человека.