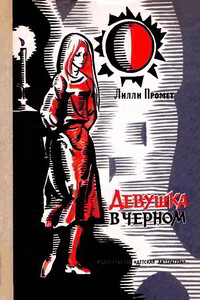И это все? Такой бедности Йемель в жизни еще не видел. Абдулла вытащил из-за печки пол-литра водки и, охая и кряхтя, залез на нары.
— А ты чего ждешь? — позвал он Йемеля и перочинным ножом нарезал закуску — брынзу. У брынзы был отвратительный запах.
— Тошнит, — отвернулся Йемель.
— Ты бы сначала попробовал! — настаивал старик и протянул кусочек на кончике ножа. Но Йемель брезгливо отвел руку и просто так, в два глотка, осушил пиалу. Абдулла с округлившимися от удивления глазами принюхивался к брынзе.
— Я ничего не чувствую, — сказал он и запихал брынзу в рот.
— Слушай, скажи, ты чего так бедно живешь? — спросил Йемель.
Старик молчал, держа пиалу, и думал.
— При царе и когда нэп был, у меня все было якши, — ответил он наконец. Разве Йемель, чудак, вообще знает, что такое рис? Ага, все-таки знает! Так вот, каждый день ел рис с изюмом и орехами и пил зеленый чай. Спал на пуховых подушках. Сколько подушек было у Йемеля? Всего две? А у Абдуллы их было несколько повозок и даже больше. Ходили по коврам, и стены были увешаны коврами, — Абдулла хихикал и гладил бороду: — А женщины! Какие женщины тогда были!
— Женщины и теперь ничего, — заметил Йемель. Немало женских глаз подмигивало ему.
Но Абдулла брезгливо махнул рукой. Разве это женщины? Все ноги в навозе!
— В старину ножки у женщин были тонкие, как у рысаков. И украшениями были увешаны с головы до ног. С ума можно было сойти, когда такая гордо выгибала шею или покачивала бедрами при ходьбе. За такую и последнюю лошадь отдать было не жаль.
От этих воспоминаний Абдулла выпучил пьяные глаза и мокрая нижняя губа его отвисла.
А Йемеля интересовало, куда же делась вся эта красота и роскошь?
— Всех богатых выслали из деревни, — сказал Абдулла. — Объявили кулаками и угнетателями. Теперь я живу так, чтоб никто не позавидовал. И когда ты нищ, как я, никто тебя не трогает. Вот как надо жить, хитро!
— А тебя из деревни не выгнали? — спросил Йемель.
— Как же не выгнали? Десять лет меня не было, потом вернулся. Где-то жить же надо. А ты какого черта в России ищешь? Сидел бы сейчас дома.
Йемель потряс головой:
— Не рискнул, старина. Не рискнул. Кто этих фашистов знает. Темное дело. Да и у бомб ведь глаз нету, они между людьми различия не делают… Увидишь, я и тут встану на ноги… Тут все-таки спокойнее. Уверенней как-то себя чувствуешь. Большая страна, большие возможности…
Старик безнадежно махнул рукой.
— Скажи мне правду, — Абдулла нагнул хитрое лицо к Йемелю, и его мокрая бороденка защекотала щеку Иоханнеса. — Ты правда холостяк? Ты что, никогда не знал женщин?
Лампа страшно коптила. Водка кончилась.
— Все. Больше нету, — огорчился Абдулла. Йемель пошарил в нагрудном кармане и вытащил одеколон.
— «Сирень». Не знаю, можно ли пить? — спросил Йемель лицемерно.
— Давай сюда! — Абдулла схватил пузырек, отвернул пробку и с бульканьем вылил одеколон в пиалу.
Теперь все запахи перемешались: вонючий запах брынзы и приторно сладкий запах «Сирени».
У Йемеля нашелся еще флакон «Камелии». Но Йемель сказал, что этот пузырек ему не принадлежит. Кто-то просил продать.
— Врешь, собака, — старик замахнулся на Йемеля локтем, на четвереньках пополз в угол нар к сундуку и откинул крышку.
— Сколько ты хочешь?
Йемель назвал цену и попробовал заглянуть в сундук. У него зашлось сердце. Обитый железом ящик был до краев полон денег, сотенных, десятирублевых, тридцатирублевых бумажек.
Эти деньги Абдуллы Йемель потом видел даже во сне. Это был самый жуткий сон в его жизни. Всю ночь он мучился в страхе, что деньги могут украсть, ведь ящик без замка. Йемель вертелся, охал, мычал во сне, вскрикивая иногда: «Деньги! Деньги!» И просыпался от сердитых толчков Популуса весь в поту, с одеколонной отрыжкой.
И Пярья видела тревожные сны. Сообщения Информбюро не особенно огорчали ее, потому что она не знала России. Она не знала, где находились те далекие города, поселки и участки фронта, о которых говорилось в сообщениях Совинформбюро. Ее мучил главный вопрос, что война все еще продолжается. Да, война продолжалась.
По вечерам Ханнес изучал газету, указательный палец кузнеца двигался вдоль строчек. Пярья, как обычно, спрашивала: