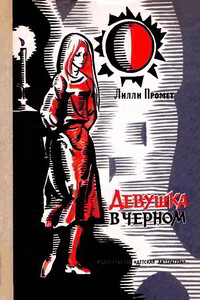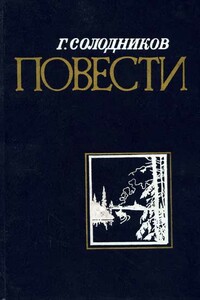— Ешь, Володенька. Я пекла этот пирог для тебя.
Володя сердился на мать, но Таня сдерживала его.
— Не стоит. Она так любит тебя. Как ты этого не понимаешь?
А когда Татьяна тяжело заболела, Клавдия Ивановна суетилась вокруг, плакала и жаловалась, дежурила ночами у ее постели.
Таня поправилась. И все пошло по-старому. Когда она пыталась обнять свекровь, та отворачивалась.
— Давай переедем, — предложил Володя. — Вам с матерью вдвоем тесно.
— Ты с ума сошел! Мама этого не переживет, — испугалась Татьяна.
Потом пришла война.
Клавдия Ивановна сильно сдала. Превратилась вдруг в маленькую, безвольную, старую женщину. Сидела у окна, положив руки на колени, и ждала писем от сына. Таня заставляла ее есть, и Клавдия Ивановна подчинялась с безразличием. Она не жаловалась на боли и болезни, но сохла на глазах. Татьяна поглядывала на нее с затаенным страхом. Невестка была бы счастлива снова видеть свекровь своенравной и ворчливой. Только бы не такой, как теперь. На бомбежки Клавдия Ивановна не реагировала и продолжала сидеть в кухне у окна, как обычно.
Завод, на котором работала Таня, эвакуировался. Но Клавдия Ивановна отказалась покинуть Москву.
— А ты езжай, если хочешь, — сказала она.
Татьяна осталась.
Клавдия Ивановна умерла неожиданно.
Однажды после обеда Таня убирала посуду. Клавдия Ивановна позвала ее.
— Писем не было? — спросила она.
— Еще будут, — успокоила Таня.
— Не будет, — сказала старушка. — Больше не будет писем. Я чувствую. Ведь я мать.
Она посмотрела добрыми глазами на Татьяну и успела еще сказать:
— Жалко, что детей у вас нет, Танюша…
Больше всего нравилось Лиили бывать у Татьяны дома. Она всегда садилась у окна. Отсюда было видно закатное солнце, розовый месяц, странное переменчивое небо. А Татьяна обхватывала руками колени и читала стихи.
Лиили думала, что хорошая русская литература была только в далеком прошлом, во времена Пушкина и Толстого. Что добавлено к этому за последние двадцать лет? Тенденциозная литература не есть и не может быть настоящей литературой, думала она.
— Где ваши современные великие писатели?
— А Маяковский? — спросила Татьяна.
— Это не поэт. Он — трибун и акробат. У него нет ничего прекрасного, ничего для души… — сказала Лиили брезгливо.
И еще по многим разным вопросам их мнения расходились. Татьяна не обижалась, не становилась резкой. Она просто объявляла:
— А я люблю это!
Иногда такие беседы охлаждали восхищение Лиили. Ей казалось, что Татьяна фанатичка и далека от объективной правды. Она решила реже ходить к ней и пыталась внушить себе, что ходит туда только от скуки — должен же человек где-то развлекаться. Разве свекор сидел бы каждый вечер с Популусом, если бы у него было общество получше? Едва ли.
Вечером Лиили извинялась перед домашними:
— Ходила граммофон слушать.
Они действительно и граммофон слушали. Особенно нравилась Лиили пластинка, которую она ставила много раз:
Любимый мой, тебя я вспоминаю
И вижу вновь и вновь в туманной мгле,
И как молитву твое имя повторяю,
И ног твоих следы целую на земле.
Татьяна морщилась.
— Почему? — удивлялась Лиили. — Это ведь так красиво.
Татьяна морщилась.
Скорбь делала Лиили мрачной. Целыми днями она вспоминала живую Трину, когда она играла в песке и смеялась. Трину, пьющую потрескавшимися губами из чашки, ее грустные терпеливые глазенки. Лиили мучилась этими воспоминаниями, плакала и спрашивала себя: «Зачем я живу?»
— Как ты можешь быть такой спокойной, работать, словно у тебя нет никакого горя? Ведь ты ничего не знаешь о своем муже с самого начала войны.
— Есть люди гораздо несчастнее меня, — ответила Таня.
Они шли к полям. Пахло викой, шелестела поспевающая рожь. Тане казалось, что этот шелест был похож на шепот, обвиняющий, предупреждающий, что зерно осыплется раньше, чем его успеют собрать!
В вечернем небе угасали желтые и лиловые полосы, а серые тучи словно затвердели на месте. В деревне зажигались огни. Ветер доносил с другого берега звуки гармошки. Должно быть, играл какой-нибудь подросток, потому что мужчин в деревне становилось с каждым днем все меньше.
Татьяна Лескова задумчиво смотрела на бледные облака в золотистых трещинах, а Лиили здесь, на берегу Шайтанки, ощутила, какой пустой была ее жизнь, и дала волю своим горьким мыслям. Ей было уже тридцать лет, хорошего вспоминалось мало. Как жить дальше? Она так одинока…