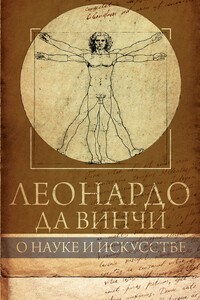Продажа проходила в жуткой суматохе. Хоть аукцион и должен был состояться восемнадцатого декабря, через четыре года после кражи, торги стартовали в ноябре. Tarisio получили первую заявку уже через несколько минут. Джейсон позвонил мне и сказал, что это была самая быстрая заявка в их практике. Он был очень доволен.
— На нее огромный спрос. Ты, должно быть, рада?
Я была в шоке. Понятное дело, что Tarisio счастливы, но мне-то с какой стати радоваться? Я втайне мечтала о том, что не найдется ни одного покупателя, и скрипка каким-нибудь чудесным образом вернется ко мне. Или Джейсон забыл, как сильно я любила свою скрипку и как не хотела ее отдавать? В тот момент я действительно осознала, что она ушла, и видимо, навсегда.
Как и было обещано, они раздули из этой сделки целое событие. Фото в глянцевых журналах и статьи в центральной прессе. Это было хорошо для Tarisio, но никак не для моего душевного равновесия. И вот час пробил. Мы с Йеном тогда ехали на концерт. Я ничего не хотела знать об этих торгах, но не могла не следить за новостями. Это как если бы моего возлюбленного силой женили на другой. Последняя новость, которую хотелось бы услышать, но которую невозможно пропустить. За несколько часов, прошедших с тех пор, как были открыты все телефонные линии и интернет-каналы, в Tarisio не поступило ни одного звонка, никто не сделал ни одной заявки, никто не набавлял цену. Совсем не то, чего они ожидали. И вдруг, за десять минут до закрытия аукциона, прозвучала вторая ставка. Есть правило: если ставка приходит под конец аукциона, его продлевают на десять минут. Что и было сделано. И за эти десять минут кто-то сделал финальную ставку, которая и решила судьбу моей скрипки. Все было кончено. Теперь она принадлежала кому-то другому. Между мной и скрипкой все было кончено.
Но боль-то от этого не прошла. Новый владелец протянул с оплатой до конца мая. Все это время Йену было очень тяжело, ведь он опустошил все свои счета, чтобы мне помочь. Каждый раз, когда новый владелец нарушал срок платежа, а он сделал это дважды, Йен, а вместе с ним и Джейсон, теряли деньги. Скрипка тем временем лежала в темноте, под замком, в хранилище Tarisio. И я часто ловила себя на мысли: «А как же я? Tarisio ею больше не владеют, новый хозяин тоже, так почему я не могу хотя бы раз сыграть на ней? Разве у меня нет права?» Но эта дверь была для меня закрыта наглухо. Слишком много на кону, слишком все неопределенно. Кто знает, что я сделаю, если она снова попадет ко мне? О том, чтобы сыграть на ней, нечего было и думать. «Кастельбарко» мне не нравилась. Каждый раз, когда я брала ее в руки, она казалась мне мертвой. Она к тому моменту уже хорошо меня изучила, поняла, что я не собираюсь на ней играть и ничего не могу с этим поделать, так что тоже не особо старалась. Поэтому играть я перестала. После квартета и трио, теплые волны дружбы и сочувствие снова превратились в холодную стоячую воду. Дышать было нечем. Воздуха не осталось.
Каково это — быть вундеркиндом? Реприза
Я поругалась с родителями. Скрипка и события, связанные с ней, немало рассказали обо мне и о том, кем я была когда-то. А была я вундеркиндом. Дошло до того, что я накричала на маму, мою милую, дорогую маму, которая всегда-всегда старалась сделать как лучше. Я вопила, что она не понимает самого главного: я бросила свою жизнь к ее ногам и к ногам всех остальных, и все ВПУСТУЮ! ВПУСТУЮ!
Выплеснулось все — весь мой гнев, все детские обиды, да и взрослые тоже.
У мамы — и не только у нее — было четкое представление о том, какой я должна быть. И когда я не соответствовала этому образу, у меня сразу появлялось чувство, что на мне поставили крест. Между мною и той Мин, которой хотела видеть меня мама, лежала пропасть. Но я ведь тоже была человеком, пусть не Мин, но человеком же! Они все хотели сделать меня идеальной. А как маленькой девочке, которая начала взрослеть, оставаться идеальной? Как ей сохранить то, что определяло ее, если никто — никто! — из окружающих не готов смириться с изменениями? Как ей сохранить внешность, голос, покладистость, размер наконец? Перестать есть. И я снова почувствовала на своих плечах это бремя, это легкое, это невыносимое бремя, которое я несла пять долгих лет, полных одиночества. Тайная жизнь чудо-ребенка, попытки впихнуть слона в комнату, моря его голодом. Вспомним старые добрые годы в школе Перселл. Я тогда ничего не ела. Я страдала анорексией, но все, все вокруг, осознанно или неосознанно, были на стороне анорексии, а не на моей.