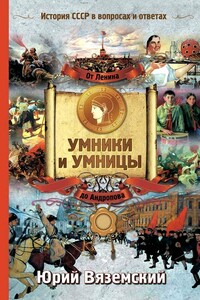Отец и солдаты спали, что называется, под открытым небом. А нам с матерью отвели переносную палатку, скромную, но уютную. Лусена спала на походной кровати, а я – на гадесском ковре, который клали прямо на землю, поверх него настилали солдатский плащ, а другим плащом я укрывался.
Посуду взяли с собой самую простую. Но Лусена заставляла меня пить из маленького серебряного кубка, говоря, что кубок этот волшебный: он, дескать, не только очищает воду, но и отгоняет злых духов и сопутствующие им болезни. Из чего пила Лусена я, представь себе, не помню. А вот отец пил из большого серебряного кубка, на внешних стенках которого были вырезаны названия всех промежуточных станций на дороге Гадес – Рим и указаны расстояния между ними… Как я выяснил, отец купил этот кубок задолго до нашего путешествия: видимо, рассчитывал или надеялся, что скоро ему удастся выбраться из Иберии.
Кубок этот чудом сохранился и сейчас стоит передо мной.
Но я из него пока не прихлебываю. Потому что сижу в тепидарии и еще не заходил в калдарий.
Я так всегда делаю, когда посещаю баню. Обязательно некоторое время, не менее четверти часа, сижу в тепидарии, чтобы слегка вспотеть и подготовить тело к высокой температуре горячей бани. А те, которые любят контрасты, сразу устремляются в калдарий, оттуда кидаются в фригидарий, и снова – в калдарий, совершенно не используя благотворное воздействие тепидария…
Мне так не нравится. Я уже давно перестал любить резкую смену обстановки…
IV. В первый день нашего путешествия, когда мы только покинули Кордубу, выехали на Августову магистраль, и турма отца, что называется, по первопутку, не покинула нас и ехала рядом, проверяя обстановку, мне уже к полудню надоело сидеть на телеге. Я спрыгнул и принялся бегать: сперва убегая вперед и возвращаясь к повозкам, потом взбегая на холмы, следуя по ним параллельно нашему движению, а затем кубарем скатываясь вниз наперерез кавалькаде. Благодаря тренировкам, которые ты мне предписал, я уже очень прилично бегал: в гору бежал, словно по ровному месту, дыхания не сбивал, не утомлялся, потому что умел рассчитывать силы и соразмерять движения. Мне хотелось продемонстрировать своим спутникам – если не отцу, то по крайней мере его подчиненным, – мне хотелось им доказать, что я весьма приспособлен к путешествию и ничуть не буду им в тягость, потому что в каком-то смысле я тоже – маленький солдат; во всяком случае, бегать и прыгать умею превосходно.
Но отец на меня ни малейшего внимания не обратил. А некоторые конники сначала за мной приветливо наблюдали, но, заметив, что их командир даже не смотрит в мою сторону, нахмурились и наблюдать перестали. Когда же я стал взбегать на холмы, двигаясь над дорогой, то позади себя я скоро заметил всадника из декурии Туя, который, на лошади продираясь через кусты, глядел на меня настороженно и, как мне показалось, вовсе не приветливо.
Я сбежал с холма и выбежал на дорогу, перед носом у кавалькады. Отец, который ехал рядом с телегой, укоризненно и виновато посмотрел на Лусену, и та крикнула: «Сыночек! Хватит шалить! Возвращайся на место!» А когда я запрыгнул на телегу, отец, не взглянув на меня, произнес негромко, но так, что многие конники, и молодчики, и конюхи слышали:
«Ну, вот загнали собачонку на место. Слава Меркурию! Теперь никто не крутится под ногами».
И почти все рассмеялись. Злорадно – никто, но многие – с облегчением.
Таков был итог моей демонстрации. И больше я уже не бегал вокруг телеги: ни до перевала, ни после него. И не то чтобы я устыдился или обиделся на отца. Я вдруг в полной мере ощутил, что и для отца, и для всех этих людей я лишь маленькая собачонка, которая путается под ногами, за которой надо присматривать, которую надо кормить и которой иногда хочется побегать и попрыгать. И эту собачонку придется терпеть до Тарракона. А там можно будет отделаться от нее – сдать на руки деду, Публию Понтию Пилату.
V. И когда я ощутил и осознал это, то почти тут же подумал и как бы ответил отцу:
Не «собачонка» я, а поймен, у которого есть недавно разработанная им пойменика