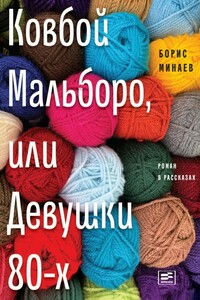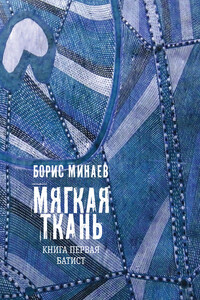Я представлял себе, как Давид Моисеевич, в кальсонах и майке, лежит на высокой железной кровати и любовно ощупывает свой бицепс.
Мне становилось противно. И ещё было обидно за старика Иосифа, что он живёт, задвинутый Давидом Моисеевичем в самый дальний угол нашей громадной квартиры. Я начинал отчаянно прыгать на диване. Диван визжал, подушки сползали на пол, и Иосиф подбирал их, громко шепча:
— Ну что ты! Ну я тебя умоляю!
…Утром он уходил покупать свежий кефир, а потом до вечера отправлялся в библиотеку, читать газеты.
…А мой папа с утра делал зарядку. Он раздевался до пояса, и, привязав к ремню двухпудовую чёрную гирю, выпрямлялся и нагибался. Шея у него становилась ужасно красная и он шумно сопел. Я испуганно смотрел на ремень — неужели не оборвётся? Но ремень не обрывался, только становился после упражнений каким-то очень мягким и дряблым.
Потом папа обливался холодной водой под умывальником. Он фыркал и снова шумно сопел, а мама подносила ему полотенце. «Папа делает настоящую зарядку, — думал я. — Не то что Давид Моисеевич».
Папа вытирался и спрашивал меня:
— Ну ты как вчера? Опять лекцию слушал?
Они с мамой начинали весело смеяться. Однажды я спросил их, почему они смеются над стариком Иосифом.
— Потому что он чудак, — просто ответила мама. — Но человек хороший.
Потом мы переехали в отдельную двухкомнатную квартиру на Пресне. Больше папа и мама ни у кого не просили денег до получки. Да и не у кого было. Соседи в новом доме к нам заходили редко.
… А когда мне было лет десять, мы с мамой шли по Кузнецкому мосту и забежали в маленький магазинчик, где мама хотела купить географический атлас, роскошную толстую книгу. С отдельными картами всех стран и континентов. Но я настоял на политической карте мира. Правда, она была совсем не такая, как у старика Иосифа — меньше раза в два, и кроме того, бумага была тонкая и непрочная.
Дома я повесил её над своей кроватью.
Вечером, когда пора было ложиться спать, я встал на кровати и осмотрел карту. Теперь я был длинный и свободно мог достать Северный полюс. Меня поразило, что это была совсем другая карта. Страны были совсем другого цвета. Да и названия, которые я помнил очень смутно, были тоже другие.
Немного испугавшись, я позвал папу и спросил его о причине этого несовпадения. Он ответил, что у Иосифа была очень старая карта, а в мире с тех пор многое изменилось. Нет больше ни эмиратов, ни протекторатов, сплошные свободные страны.
Папа долго подшучивал надо мной после этого разговора. Он говорил, что когда я вырасту, то буду таким же одиноким чудаком, как старик Иосиф.
Позже я узнал, как он умер. Дом на Метростроевской, где мы жили, стали выселять. Всем дали отдельные квартиры. Но старик привык жить с соседями. И не выдержав перемен, вскоре скончался.
Когда я узнал, что он умер, я ничего не сказал. Я почти забыл старика. Его щетину. Его сладкий обжигающий чай в жестяной кружке. Его голую лампочку. Запах старости и неуюта в его угловой комнатке. Его давно нестиранный костюм и жёлтые газеты в углах.
И даже глаза старика Иосифа я забыл тоже.
…Только карту я запомнил хорошо. Не знаю, почему.
Очень рано у меня начали болеть зубы. Они шатались, ныли, но не выпадали, а новые, коренные, никак не хотели вылезать, пробиваться на свет.
И тогда мама повела меня в детскую поликлинику.
Мы вошли в длинный гулкий коридор со светящимися картинками на стенах: «Чесотка — невидимый враг», «Дизентерия», «Режим для дошкольника».
Мне тут сразу очень не понравилось. Дети вокруг тихонько хныкали, или сидели смирные как мыши. А из-за закрытых дверей раздавался мощный, полновесный рёв. Только один карапуз в матроске, который ничего не боялся, храбро топал по коридору и сам себе командовал: «Нале-во!», «Стой, раз-два!». Но остановиться никак не мог, всё маршировал взад-вперёд.
Я сидел в потёртом кресле у дверей зубного кабинета и просто умирал от страха. За дверью противно визжала машинка, стучало железо, и главное — кто-то глухо и равномерно мычал:
— М-м-м-м!
Потом дверь открылась и из кабинета вышла здоровенная тётя, с очень довольным видом придерживая густо накрашенную щёку.