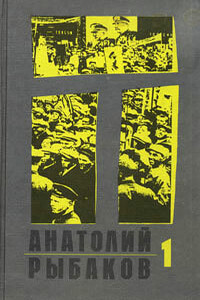Неделю он наслаждался книгами, свежим бельем, лакомствами, присланными мамой. Он опускал кусочки мяса в суп и, согрев таким образом, добавлял к каше – обед становился съедобным. Утром и вечером делал бутерброд из булки, масла, колбасы и сыра – запах школьного завтрака отбивал запах тюрьмы. Сытый, разомлевший, укладывался он на койку и читал. Лежать днем запрещалось, но Саша не обращал внимания на замечания коридорных, и они оставили его в покое, становились настойчивыми только когда приближалось начальство.
Неделя сытой, ленивой жизни с книгами, колбасой и шоколадом. Казалось, он привык, пообжился, притерся… «Все успокоились, все там будем, как в этой жизни радей не радей…» Это не убеждало, но убаюкивало.
Жизнь в книгах и журналах не имела ничего общего с его нынешней жизнью, да и с прошлой тоже. Все, исполненное страдания в «Детстве» и «Отрочестве», было не таким, как в его детстве и юности.
Он сказал тогда отцу:
– Я не позволю обижать маму.
Отец смотрел на него серыми выпученными глазами, потом опустил голову на руки.
– Хороший сын… – и заплакал.
Отец есть отец. Пусть у него холодная рука, но ее прикосновение он запомнил с детства. Хотелось утешить его, попросить прощения. Отец отнял руки от лица. Глаза были злые, сухие.
– Кто тебе дал право вмешиваться?!
– Это моя мама.
Несколько дней отец молча вставал по утрам, брился, долго умывался, одевался, разглядывал себя в зеркале, молча салился за стол, молча ел, собирал бумаги в портфель, что-то бормотал, не попрощавшись, уходил на работу. Возвращаясь, он окидывал комнату злым взглядом, обедал, не произнося ни слова, со стуком отодвигал тарелки, не отвечал на робкие вопросы матери. Только поздно вечером, когда он и мама уходили в их комнату, Саша слышал оттуда его приглушенный голос, а мама молчала и молчала, и Саша боялся, что от этого молчания у нее разорвется сердце.
Потом он сказал Саше:
– Мне надо поговорить с тобой.
Они вышли из дома и пошли по Арбату. Снежинки роились в свете уличных фонарей. Отец был в высокой меховой шапке, из того же меха воротник на шубе, он шел рядом с Сашей – высокий, красивый, гладко выбритый, категоричный, не терпящий возражений.
…Он не хотел вмешивать сына в их отношения, это она с детства внушала ему неприязнь к отцу. Она виновата в их разладе, она не разделяла его стремлений, его интересов, ей были ближе сестры и брат. Ревность – только на это и способна.
Безысходная тоска охватила Сашу. Что может он возразить отцу здесь, на улице, отец плохо слышит, надо кричать.
И Саша сказал только:
– Если люди не могут жить вместе, они должны разойтись.
Через месяц отец уехал на Ефремовский завод синтетического каучука. Так в шестнадцать лет Саше пришлось все взять на себя.
Дьяков Сашу не вызывал, и это его не волновало. Первого допроса он ожидал с надеждой, второго – со страхом, теперь не испытывал ни надежды, ни страха. Только мысль о Криворучко не давала ему покоя. Могут арестовать Криворучко, и тот признается, что сказал Саше эту фразу про повара. Тогда Сашу уличат во лжи, а уличенному во лжи, ему уже не будет доверия в главном, что касается Марка.
Ну зачем Криворучко это сказал? В какое глупое положение его поставил. Болтун! Как бы Саша поступил, если бы вопрос о Криворучко обсуждался на партийном бюро? Там бы он не утаил этой фразы… Пусть товарищ Криворучко разъяснит, что он имел в виду! Почему же здесь он должен поступать иначе? Почему должен покрывать Криворучко?
Он расскажет все, как было, и снимет с себя тяжесть. Совесть его будет чиста, а там пусть решают… «Сибирь так ужасна, Сибирь далека, но люди живут и в Сибири…» Откуда это?
Живет же он в тюрьме, лежит, читает, лакомится колбасой, шоколадом, поет каждую ночь под горячим душем, думает, вспоминает. У него отросла борода, он уже поглаживает ее, хочется посмотреть, каков он с бородой, но нет зеркала.
Опять явился надзиратель с карандашом и бумагой, забрал книги. Саша написал новую заявку. Он выписал на этот раз десять книг, авось какая-нибудь из них окажется на полке. Повторил «Войну и мир» и «Утраченные иллюзии», выписал толстые журналы за январь, февраль, март, Стендаля, Бабеля, «Историю падения и разрушения Римской империи» Гиббона – незадолго до ареста он начал ее читать, выписал Гоголя, которого любил, и Достоевского, которого не любил, – надо все же одолеть. И опять кодекс, пусть знают, что он его требует. Безусловно, его заявки просматривает Дьяков. Так вот, пусть Дьякову будет известно, что он хочет знать свои права.