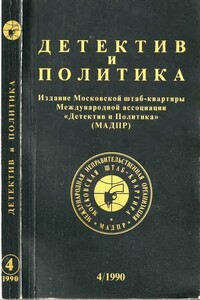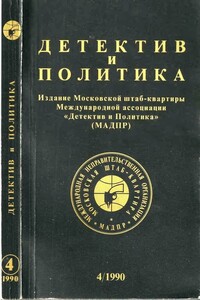— Давайте вернемся к вопросу о сроках после того, как уйдет поезд в Симферополь, — Аркадий Аркадьевич наконец улыбнулся. — С лагерным госпиталем попробуем связаться по радиотелефону. Это вас устроит?
Не дожидаясь ответа, поднялся из-за стола и, снова показав глазами на отдушины, закончил:
— С вокзала зайдем отпраздновать освобождение матери вашего сына в ресторан "Москва" и выпьем по рюмке. Напишите, кстати, пару строк Лозовскому — поблагодарите за хлопоты… А потом возвращайтесь в камеру и хорошенько подумайте над нашим разговором…
(Письмо Лозовскому подшили к делу, которое уже вели на заместителя министра иностранных дел, — будет арестован вместе с членами Еврейского антифашистского комитета.)
…В камере, продолжив с Валленбергом дискуссию о жизни римских цезарей (как выяснилось, они эту книгу тоже знали чуть ли не постранично), Исаев, расхаживая под "намордником", внезапно замер, потом подбежал к параше, согнулся над нею, изобразив внезапный приступ рвоты, незаметно достал обломок грифеля из-под языка, сунул его в карман и вернулся "под глазок", чтобы надзиратели не дорвались в камеру с обыском; обыскивать тут умели, он это понял в первый же час, когда его привезли сюда.
Валленберг, заметив странность в поведении сокамерника, подыграл:
— Тошнит? В солнечном сплетении нет боли? В левую руку не отдает?
Исаев, потирая грудь, хмуро поинтересовался:
— Хоронили кого из друзей, почивших от разрыва сердца?
— Старшего дядю, — ответил Валленберг. — Кстати, заметьте: от этой болезни не умирал ни один деспот, император или тиран… Даже Моисей, скончавшийся на сто двадцатом году, сдается мне, просто-напросто решил уйти в райские кущи: поближе к богу, подальше от суеты людской… Надоел ему шумливый народ… Все же от гомона устают больше, чем от могильной тишины вроде этой…
— Не успокаивайте себя, — сказал Исаев. — Вы произнесли этот пассаж для себя, вам ведь не больше пятидесяти, вам нужны люди, общество, общение…
— Мне тридцать пять, — Валленберг покачал головой. — И я стал очень бояться людей.
Исаев поразился:
— Тридцать пять?! М-да… Эко вас жизнь покорежила…
— Знаете, я только в течение первого года ярился, даже хотел голову размозжить о стену, но потом задумался: а если страдание угодно? Если это мой взнос в очищение человечества от скверны? Если бы я сломался, стал здесь нечестным, принял те гнусные условия, которые мне навязывал следов…
Исаев резко перебил:
— Мы же уговорились! Ни вы, ни я не говорим о наших делах!
Сев на койку, он откинулся, упершись выпирающими лопатками в мягкую шершавость войлока, устало закрыл глаза и сказал себе: "Этот Аркадий ведет игру, которую я не могу понять… По логике вещей, он сегодня должен был задать вопрос… В конце беседы, уже после того, как ошеломил своими новостями: "Зачем вы начали свое общение с Валленбергом по-русски? Это же неминуемо посеяло в нем недоверие к вам! Вы намеренно хотели заставить его затаиться? Чтобы потом могли сказать: "Банкир отведет меня на процессе как русского!" Почему вы запретили ему исповедоваться? Он жаждет разговора о своем деле! Он со всеми говорил об этом! Почему вы не произнесли ни единого немецкого слова? Почему даже Библию вы переводили с листа на английский? Хотите переложить ответственность на Валленберга, когда он отведет вас на процессе как русского агента, так, что ли?"
…Ночью, в то время, когда надзиратель в очередной раз кричал о сдаче и приемке постов по охране врагов народа, Исаев сыграл резкое вскидывание с койки, — "разбудили слишком громкие голоса"; снова лег, закинул руки за голову, хрустко потянулся.
Потом поднялся, подошел к койке Валленберга, взял Библию, неловко толкнув при этом банкира; тот дернулся и открыл глаза, в которых был ужас.
Исаев прошептал:
— Извините, пожалуйста… Не спится… Я возьму поподчеркивать, ладно? Мой ноготь вы отличите — буду работать безымянным пальцем.
— Старый конспиратор, — сонно улыбнулся Валленберг, и в глазах его уже не было ужаса, а какая-то ищущая, в чем-то даже детская доброжелательность…
Исаев стал у двери, под лампой, и начал читать "Песнь песней"; он слышал — потому что чувствовал, — как возле глазка сопяще стоял надзиратель; пусть себе, подумал Исаев, они лентяи, работа тюремщиков — для тех, кто бежит от труда, трутни; наверняка через пять минут отойдет, устроится на стуле и подремлет — это ж Россия, не германцы…