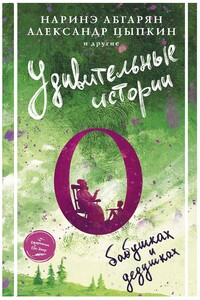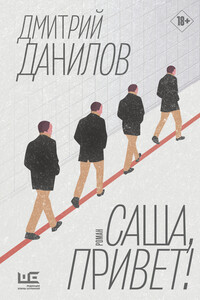Буркнул:
— Переговоры.
— Скажи, что заболел, — нашлась она.
Наташа палачески гоготнула.
— Не бросай, а? — Аня ловила мой взгляд. — Пожалуйста! Завтра поедешь… Перенеси ты их или отмени. Ты сговоришься, а меня разлюбишь. Ты прости меня, если что. Я больше ни капли не выпью! Давай поедим… Погуляем… Ты же рассказ написать хотел! Уже месяц собираешься! Не уходи, а?
Я заслонился рукой.
— Бежит, — гортанно заметила Наташа, я быстро глянул на нее сквозь пальцы, как на наглый нуль.
— Да как хочешь! — Аня скрылась в кухне.
И вот я потянул на себя калитку. Хлопок. Ура! Вступил на дорогу.
Я уходил от них, уплывал с этого гиблого места… На станцию — и в город. Сделал шаг, другой — свобода нахлынула.
Я удалялся, забыв обо всем, даже о ребенке. Свобода вела вперед и вперед, и, разрывая грудью духоту, я подумал с удовольствием, что долго сюда не приеду!
И еще подумал: а может, ну их, переговоры, перенесу. Зачем мне дела? Повремени. Приедешь, примешь душ, завались в кабак на Фрунзенской, позови живущую напротив Ксюшу, каштановую модельку с мозгами ласточки, а потом все секреты горячим воском запечатает ночь.
Пока было серое утро свободы и птицы свиристели на пределе.
Забулькал-зарокотал, полня собой небо, отрадный гром, чтобы подражательно, бодрыми голосами помощников отозвались собаки. Булькая и взахлеб.
— Вась! Вась! Вась!
Далеко или близко — нельзя было понять. Сколько их было? Две? Три? Стая?
Они квакали и булькали:
— Вась! Вась! Вась!
Меня остановило сердцебиение. Лед предчувствия кто-то прижал к темени и отпустил. Ледяной кусок. Лоб холодно взмок. Я раскатал обратно подвернутые рукава зеленой толстой рубахи, которая была напялена поверх белой рубашки-промокашки.
Иди, иди, иди. До станции близко.
Нерешительно задержал руку на горле, прикрывая артерию. Где она, артерия, кстати, сонная, вечно неусыпная? Вот это она, скользкий пульс? Напряг глаза и задвигал ногами аккуратно, выжидательно, совсем не галопом. Не спешишь ты что-то, друг. Да вот, хреново. Хреново вдруг? Говорю, хреново.
Темно-прозрачные круги, смуглые дымные колечки проплыли среди тусклого сияния, зеленого предгрозового трепета, ветреной сиреневой тьмы. Тошные шарики. Траур? Обморок то есть… На фиг! Что за блажь?
И тут сквозь тоскливый прищур внутреннего диалога я их увидел.
Далеко крутились, обнюхиваясь, они. Или это пыль грубо играла на ветру?
Я снова встал с вялой расклеившейся улыбкой — мол, зевотно любуюсь милой окрестностью, дачник. Вынул мобильник из кармана джинсов, было ровно девять. Запрятал аппаратец.
Они на меня бежали!
Они с каждой секундой становились мордами, гривами, ушами. И лапами, лапами! Первое, что я подумал, — их порода. «Овчарки!» — подумал я, и они наскочили.
Одинаковые, без лая, веселые, матерые. Оскаленные пасти, темно-серый мех с желтым отливом, волнами вздыбленный на холках. Гибкость им придавали их сучьи очи — жадные и озорные. Они переглянулись, сестрицы-молодки. Огонек задора проскочил.
Я стоял, все еще не при делах, вроде наслаждаясь пением птиц и вцепившись надеждой в тот светлый факт, что меня не облаяли… Хорошие песики, гуляют близняшки. Где же их хозяин, откормленных?
Переглянувшись, они ринулись! С острых морд считывалось: надо бы его обнюхать… Понюхать и отпустить…
Птичье чириканье оборвалось. Они начали рвать!
Кажется, обе сразу, рвать! Зубы их щелкнули с зеркальным звоном.
И давай рвать!..
Не боль, а страх. Укус в ногу. Укус в руку, дернувшуюся к лицу. Укус в другую руку. Боль, рана, боль. Рана. Они переглянулись, координируя налет. Они напрыгивали, чугунные, все еще молча, только издавая сытное хрипение, переходившее в писк, толкая, тесня: скакнуть к горлу или повалить — и в горло, в горло. Я закричал: «Фу!», «На помощь!», «Пошла!», «Аня-а-а!», «Пшли вон, пшли-и-и!»…
Отступил к глухому забору, прикрывавшему участок.
Эти дерзкие жгучие укусы я отбивал ногами, но тотчас получал укус отмщения. Захлебываясь в крике, изнуряясь отбивать их атаку, я ощутил безнадегу, точно пловец, попавший во власть акул. Они уже вкусили кровь мою. Уберечь пах, уберечь лицо… Не сдаваться… Чем бы в них запустить? Вокруг трава одна.