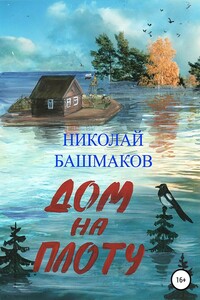Ну, а в селе бурно обсуждали это событие. Люди не сомневались, Топтыгин и был тайным Дублёром, который изрядно насолил местным преступникам, за что те и свели с ним счёты.
Большегоринцы жалели Топтыгина. Душевное состояние людей было сродни человеку, прочитавшему детективный роман. Дублёр был раскрыт. Исчезла тайна. И вместе с ней исчезло ожидание очередного приключения, а может быть даже и чуда. И всё же это не воспринималось людьми как трагический конец. Жизнь продолжалась. Была ещё жива надежда. И эта надежда не давала поверить в то, что торжествующее и на этот раз зло победило окончательно.
К моменту, когда Топтыгина выписали из больницы, большегоринцы уже обсудили все подробности этой истории. Люди знали: Топтыгин ни на кого не стал заявлять. И, как его не допрашивали, не сознался в том, что помогал милиции. И правильно сделал. Какой бы дурак в наше время сознался, что помогал разоблачать преступников. Это всё равно, что подписать самому себе приговор.
Топтыгин после больницы долечиваться не стал. Он пошёл в правление колхоза "Рассвет" и через два дня уже работал в колхозных мастерских. Пора наступала горячая. Венец всей годовой работы хлебороба – уборка. Что бы там ни говорили о тяжёлой доле предпринимателя или банкира, которые "делают деньги" тем большие, чем быстрее оборот их капитала, труд их ни в коей мере нельзя сравнивать с трудом земледельца. Крестьянин получает доход один раз в год. Уже одно это ставит его в невыгодное по сравнению с другими положение. Но и это не всё. За последнее столетие российская деревня пережила столько всяческих реформ и преобразований, что, казалось бы, удивить чем-то сельских жителей невозможно. Но "талантливые" государственные мужи придумали такое, чего до сих пор ещё не было. Государству стала не нужна продукция своих крестьян. Страна на закупку продовольствия за границей тратит в десятки раз больше, чем весь Советский Союз в условиях "всеми проклинаемого" застойного периода. А закупать продукцию у сельских граждан своей страны не желает. И этот парадокс с точки зрения нормальной логики объяснить невозможно.
Впрочем, не будем утомлять читателя вопросами экономического характера и перейдём к жизни села, потому как история с Дублёром имела продолжение…
Два следующих события, произошедшие в селе Большая Гора, были связаны с колхозом "Рассвет". Если государство, как уже было сказано, к продукции, выращенной колхозниками, не проявляло никакого внимания, то интерес к этой продукции со стороны частных лиц неизмеримо возрос. В настоящее время существует великое множество узаконенных способов изъятия у крестьянина его продукции. Самым простым и пока ещё не везде легализованным является обыкновенное воровство.
Колхоз "Рассвет" по этому показателю находился далеко не на последнем месте. И виной тому были не только объективные факторы. Как известно, показатель этот почти всегда обратно пропорционален силе власти. Чем сильнее власть, тем меньше воровства. И наоборот. Колхозу "Рассвет" все последние годы на власть сильно не везло.
Старшее поколение помнило те времена, когда хозяйством управлял образованный и волевой председатель – Копытов. Именно в то время колхоз и был миллионером. Но Копытов ушёл на повышение. А в стране наступила "эпоха перестройки и гласности". Колхозники получили, наконец, возможность выбрать не назначенного сверху, а своего руководителя. И хотя в хозяйстве было много порядочных и грамотных специалистов, эйфория "всеобщей демократизации" протолкнула на должность главы ловкого и пробивного шофёра Вилкина. Не беда, что у него не было специального образования и он понятия не имел, что должен делать руководитель. Зато он был "своим парнем" из низов, а не какой-то там "институтский бездельник". Вилкин был простым и понятным. Не придирался за пьянку. "Если требовало дело", то и сам мог выпить с кем угодно. Не "наводил дисциплину", не заставлял "работать на износ", а самое главное – мог закрыть глаза на мелкое воровство.
В общем, данный руководитель был удобен для всех. Однако это обстоятельство совершенно не способствовало процветанию колхоза. Воровство общественного добра приобрело здесь почти легальный характер. Многие вообще рассматривали его как форму некой компенсации за свой труд. Ибо нормальную зарплату в хозяйстве не выдавали уже три года. А авансы, которые люди получали раз в квартал, очень напоминали милостыню. Правда, далеко не такую, что собирают нищие в столице. Тем не менее, колхозники забастовок не объявляли, а продолжали работать на общественной ниве, успевая при этом обслуживать и личное подворье.