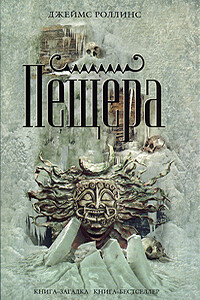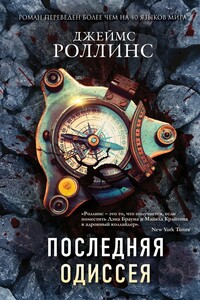Отец?
Я не произношу это слово вслух. Но слышу его. Это мой голос в возрасте шести лет произносит его – оно звучит точно с таким же неизмеримым изумлением, как в тот день, когда Лоуренс утонул. Мой отец, опоздавший его спасти, он стоит в воде точно так, как сейчас стоит по пояс в тени в моем номере.
– Дэвид?
О’Брайен стоит надо мной на коленях, ее дыхание теперь замедлилось. Ее взгляд, выражавший озабоченность, теперь меняется, становится каким-то другим, когда она замечет, как изменилось мое собственное выражение лица. Ужас, который я испытал ребенком, когда отец обернулся ко мне в день гибели моего брата, когда я увидел перед собой лицо чужака, незнакомца.
И точно такой же чужак, незнакомец, сейчас поворачивается лицом ко мне.
НЕТ!
Я сталкиваю Элейн с себя, и она падает на бок, хватаясь за скомканную простыню, чтобы не свалиться с постели.
– Что стряслось?!
– Ты его видишь? – спрашиваю я, закрыв глаза, но тыкая пальцем туда, где стоял отец.
– Кого? – О’Брайен включает лампу на прикроватной тумбочке. – Здесь никого нет.
– Здесь только что был мой отец, – говорю я ей, уже открыв глаза, чтобы удостовериться, что видение уже исчезло.
– Все в порядке. Мы в полной безопасности.
– Нет. Не думаю.
Моя коллега натягивает майку. Она стоит на том самом месте, где секунду назад я видел своего отца.
– Дай-ка мне вот это, – говорит Элейн, указывая на книгу «Рай утраченный», лежащую на столе. Я бросаю ей эту книгу, и она летит, хлопая страницами, словно запаниковавшая птичка. Но и после того как подруга ее ловит, книга, кажется, все еще дергается в ее руках, открывается всякий раз, когда О’Брайен не сжимает ее пальцами. Книга выглядит словно рот, судорожно пытающийся глотнуть воздуху.
Элейн идет в ванную. По пути она касается рукой стен, стараясь сохранить равновесие.
– С тобой все в порядке? – кричу я ей вслед.
– Все отлично, – говорит она, но голос ее звучит совсем мрачно. – Мне просто надо пописать.
– А книгу ты прихватила, чтобы почитать на досуге?
– Хочу поглядеть, о чем вся эта бодяга.
О’Брайен захлопывает за собой дверь. Но, прежде чем дверь закрывается, я успеваю заметить ее отражение в зеркале. Я ожидаю увидеть на ее лице разочарование в связи с моим провалом. Моим провалом. Или, может быть, неудовольствие по поводу того, где мы сейчас оказались, как она позволила дать себя уболтать и попала в положение, которого всеми силами постаралась бы избежать, если бы с ней был не я и если бы ее дни не были сочтены. Но вместо этого я вижу, что моя подруга напугана. Ей вовсе не нужно было в ванную. Просто она не хочет, чтобы я видел ее страх.
И почти сразу же я слышу ее крик. Никогда бы не подумал, что эта женщина способна издавать подобные звуки, и мне требуется целая секунда, чтобы осознать, что это кричит именно она. Это какие-то захлебывающиеся всхлипы и задыхающиеся стоны, подобные тем, что издает тонущий ныряльщик, которого вытаскивают из воды.
– Что там у тебя?! – кричу я, уже стоя возле двери в ванную.
– Ты только посмотри на меня! Я, наверное, сейчас смотрюсь как девица, только что потерявшая невинность на вечеринке.
– С технической точки зрения мы ничего такого не делали.
– И с технической точки зрения я не невинная девица.
– Ага. Такая, значит, аналогия.
– Хотя ты, наверное, с таким сталкивался.
– Можно мне войти?
– Папашу своего с собой прихватишь?
– Нет, насколько могу судить.
– Тогда, конечно, заходи.
О’Брайен сидит на унитазе, на его опущенной крышке. «Рай утраченный» открыт и лежит у нее на коленях, а она вытирает лицо и нос туалетной бумагой. За последние три минуты она постарела на двадцать лет. И в то же время, несмотря ни на что, она сидит, плотно сжав колени, в позе ребенка.
– Извини за то, что произошло, – говорю я. – Я опять радовался жизни.
– Я тоже.
– Такое ощущение, что наш приятель не желает, чтобы мы развлекались.
– Или это, или же у тебя какие-то серьезные сексуальные проблемы.
Она издает кашляющий смешок. И продолжает кашлять. Одной рукой хватается за бачок, другой за стену, стараясь удержать тело в равновесии, пока оно дергается, пытаясь избавиться от чего-то, застрявшего в груди. Через секунду ее бледная кожа приобретает какой-то цвет. Но не розовый, а синюшный.