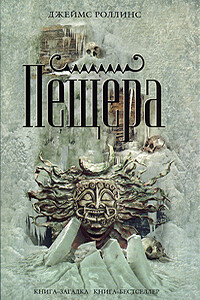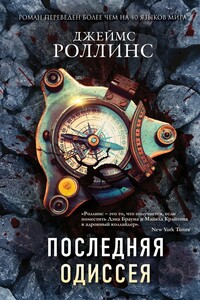И сказал Господь сатане: откуда ты пришел?[42]
Я не вижу этого, но знаю, что нечто наблюдает за мной из-за деревьев. Это некая плотность, столь огромная, что она сгибает воздух, это нечто вроде гравитации, действующей вбок, растягивающей все вокруг себя. Вневременная и ненасытная, она ничего не сообщает своим раздувающимся молчанием – только желание чего-то. Это территория странствий и блужданий, она тянется все дальше и дальше. Голодная, алчущая горя и бед.
И отвечал сатана Господу, и сказал: я ходил по земле, и обошел ее[43].
Мой взгляд перемещается обратно на песчаную игровую площадку. Я стараюсь не сводить с нее глаз. Ничего не впускаю в себя, только слова мальчика, который теперь вещает вслух.
– А почему бы и нет? – продолжает он, словно я останавливал время, а теперь снова позволил ему идти дальше. – Это все потому, что ты не в силах воспринять понятие о его абсолютном добре! Ты слишком много страдал – это были твои собственные страдания, твоя собственная меланхолия, – чтобы потом без сомнений и вопросов служить вечно любящему, вечно тиранствующему Господу. Его доброта – это еще одно наименование Власти, это как бы письменный приказ от имени отсутствующего отца. Твой критический ум не дает тебе никакого иного выбора, как только видеть это. И этим ты напоминаешь мне Джона.
Мальчик смотрит в небо. Сперва я даже благодарен ему за то, что он отвел от меня взгляд. Но затем он начинает говорить другим голосом – своим собственным. Это похоже на какое-то влажное и ненавидящее шипение, и я понимаю, что именно эти звуки, а не его взгляд я никогда не забуду. Этот голос, цитирующий стихи поэта, будет всегда читать их в моих снах, навсегда останется кошмаром всей моей оставшейся жизни.
Но знай, к Добру
Стремиться мы не станем с этих пор.
Мы будем счастливы, творя лишь зло.
Его державной воле вопреки.
Выговорив это, Тоби снова смотрит на меня. Голос снова тот, который он выбрал для разговора со мной:
– Мужественное сопротивление. Вот что связывает нас, Дэвид.
– Я не с вами.
– С нами, с нами! – Мальчик вскакивает, еще не договорив последнее слово. – Ты всегда знал это. Джон был с нами с самого начала, точно так же, как и ты.
– Это ложь!
– Неужели? Его лучший друг детства гибнет в море. Его первая жена бросает его вскоре после свадьбы. Его на время исключают из Кембриджа за спор с наставником. Потом он сидит в тюрьме за свои раскольнические, сектантские взгляды. Он был такой же, как ты и я, – такой же, как мой хозяин, его наиболее великолепно написанный герой, – всегда сопротивлялся попыткам порабощения. Мятежник, чувствительный ко всем утратам и несправедливостям жизни. «Рай утраченный» – это самый замечательный, самый великолепный умышленный обман, отличная попытка ввести в заблуждение. Вроде как предназначенная для оправдания деяний Господних в отношении человека, но на самом деле это – оправдание борьбы за независимость, за свободу. Это было для своего времени самым прекрасным образцом того, что можно назвать демонической пропагандой. Мой шедевр.
– Твой шедевр?!
– У любого поэта есть муза. И я был музой Джона Милтона. Или даже чем-то более вдохновляющим, чем муза. Я дал ему все нужные слова. Он просто поставил свое имя под ними.
– Твоя самонадеянность и высокомерие ослепили тебя.
– Ослепили! Ха! Джон уже был слеп, когда писал свою поэму! Ты что, забыл? Именно тогда он попросил о помощи. Он молил тьму, окружившую его, молил о вдохновении. И я пришел! Да! Я пришел и прошептал ему на ухо свое сладостное, ничего не значащее ничто.
Дьявол всегда лжет, Дэвид.
– Вздор! Чушь!
– Не надо грубостей, профессор. Ругань, богохульство – в этой области состязания со мной тебе не выиграть.
На краю песчаной площадки, где стоят качели, парочка чаек дерется из-за того, что на первый взгляд представляет собой кучку куриных костей. Маленькая грудная клетка, маленький череп… Но ничего такого там только что не было. Не было никаких костей.
Птицы клюют друг друга в глаза, хватают друг друга за шеи, тянут, выдергивают перья, куски плоти. Деревья придвигаются ближе, чтобы увидеть первые капли крови.