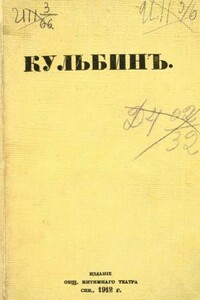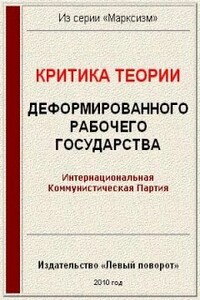.
Шопенгауэр. Что?.. как вы сказали?..
Ницше. Что?.. как вы сказали?..
Уайльд. Что?.. как вы сказали?..
Гофман. Что?.. как вы сказали?..
Бергсон. Кинематограф…
Шопенгауэр. Что такое кинематограф?..
Ницше. Что такое кинематограф?..
Уайльд. Что такое кинематограф?..
Гофман. Что такое кинематограф?..
{347}Евреинов. Живая фотография. Аппарат, который… (Даю посильное объяснение кинематографа.)
Бергсон. Каково искусство кинематографа, таково же и искусство нашего познания. Вместо того чтобы слиться с внутренним становлением вещей, мы становимся вне их и воспроизводим их становление искусственно. Мы схватываем почти мгновенные отпечатки с проходящей реальности, и так как эти отпечатки являются характерными для этой реальности, то нам достаточно нанизывать их вдоль абстрактного единообразного, невидимого становления, находящегося в глубине аппарата познания, для того чтобы подражать тому, что есть характерного в самом этом становлении. Восприятие, мышление, язык действуют таким образом. Идет ли дело о том, чтобы мыслить становление, или выразить его, или даже его воспринять, мы совершаем не иное что, как приводим в действие род внутреннего кинематографа. Можно, таким образом, сказать, что механизм нашего обиходного познания имеет природу кинематографическую>{804}.
Ницше. Слишком «профессорское» объяснение!
Бергсон. Это ничего не значит, если оно доказательно.
Ницше. Вы полагаете?
Евреинов. Продолжайте, профессор! — я горю от нетерпения.
Бергсон (после паузы). Итак, жизнь — это театр. В самом деле! — Попробуйте на самое короткое время проникнуться всем тем, что говорится и делается, действуйте, в своем воображении, заодно с теми, которые действуют, чувствуйте с теми, которые чувствуют, дайте, наконец, излиться вашей симпатии во всей ее полноте, и, как бы по мановению волшебного жезла, самые легкие предметы, окружающие вас, отяжелеют, и суровый оттенок ляжет на все вещи. Отрешитесь затем от всего этого, взгляните на жизнь как равнодушный зритель — и много драм обратится в комедию. Кроме этого имейте в виду, что в действительной жизни бывают сцены, настолько близкие «к высокой комедии», что театр мог бы усвоить их, не изменяя ни одного слова.
О. Уайльд. Браво, браво! Французский ученый сразу скажется в изящном остроумии. Это его отличительная черта от немецких ученых.
Ницше. Если вы имели в виду задеть меня, то жестоко ошиблись — я славянин.
Бергсон. Поразительно, сколько явлений в мире можно объяснить чрез театр. Вот вы коснулись остроумия. А приходило ли вам в голову, что остроумие, в широком смысле, это известный способ мыслить драматически>{805}, определенная способность видеть вещи sub specie theatri>{806}? Между тем это именно так. Вместо того чтобы пользоваться своими идеями как безразличными символами, остроумный человек их видит, слышит, а главное — заставляет их разговаривать между собою, подобно людям. Он выводит их на сцену и сам отчасти выступает вместе с ним. Остроумный народ непременно увлекается театром. Каждый остроумный человек до некоторой степени поэт, так же как каждый хороший чтец отчасти актер. В тесном же смысле под остроумием подразумевается известная способность набрасывать {348} мимоходом комические сцены, но набрасывать их так осторожно, быстро и легко, что все кончается прежде, чем мы успеваем это заметить.
О. Уайльд. Браво, cher maître! Это самое остроумное определение остроумия!
Евреинов (Бергсону). Следуя вашей трехчастной формулировке выводов из сегодняшнего colloquium’a, я жду, если вы кончили с любезно-поучительными добавлениями к первой ее части, таких же добавлений ко второй.
Бергсон. Ваша чисто режиссерская приязнь к порядку отрадна сердцу философа!.. Итак — о детских играх и ребячестве. Прибавлю к сказанному о сем почтенными коллегами лишь то, что в большей части наших приятных эмоций есть несомненно много, так сказать, ребяческого; и кто знает, не являются ли самые приятные ощущения взрослого ничем иным, как вновь оживающими чувствами детства, благоуханным веянием, которое все реже и реже посылает нам наше все более и более удаляющееся прошлое. Но каков бы ни был ответ на этот общий вопрос, одно остается вне сомнений: существует тесная связь между удовольствием, которое доставляет игра ребенку, и аналогичным удовольствием взрослого. Чего же больше, если даже строгий отец принимает иногда по забывчивости участие в проказах своего ребенка! А что случается, вряд ли требует доказательств.