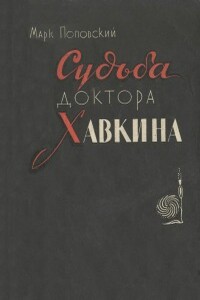* * *
Повесть «Тысяча дней академика Николая Вавилова» заканчивалась арестом академика. Мне рассказали об этой операции непосредственные участники событий. Цензура вымарала детали. Однако главное в повести состояло не в этом, а в том, что, опираясь на факты, я засвидетельствовал, как и кто готовил арест и убийство моего героя. Практически убивала машина НКВД, но пистолет наводил человек вроде бы из другого ведомства. Лицо сугубо гражданское, респектабельное, международно известное. Академик и лауреат многочисленных Сталинских премий Трофим Денисович Лысенко (1898–1976) многократно упоминается на страницах следственного дела № 1500.
Но и без юридических источников я, как и все мои соотечественники, был хорошо знаком с этим именем. Мы читали о нем в газетах и слышали по радио, идеи академика Лысенко излагались в школьных и институтских учебниках, их пропагандировали по телевидению. Мы знали, что он великий народный ученый, который принес стране невиданные урожаи. При этом опирается он не на сомнительные открытия буржуазной науки, а на замечательный опыт простых советских людей — колхозников-опытников. Его открытия всегда имеют практический смысл и являются результатом диалектического марксистско-ленинского подхода к вопросам биологии и сельского хозяйства. Лысенко был любимцем партии и народа. Депутат Верховного Совета, орденоносец, Герой Социалистического труда, он был избран в Академию наук в 1939-м, одновременно с товарищем Сталиным и товарищем Молотовым.
После смерти Сталина звезда академика Лысенко как будто слегка закатилась. Он перестал занимать пост президента ВАСХНИЛ. Но очень скоро Хрущев вернул ему свое расположение и снова сделал президентом ВАСХНИЛ. Основополагающие статьи Лысенко и его приближенных стали появляться на страницах газеты «Правда». У меня (да и не у меня одного) в 60-х годах накопилось уже достаточно материалов для предания академика Лысенко суду, пусть не уголовному, но хотя бы суду общественности. Я, в частности, имел достаточно документов, чтобы доказать, что именно Лысенко подготовил арест Вавилова, разгромил его научную школу, лишив советское общество огромных научных и практических ценностей. Но пока жив был Хрущев, ни одна газета, ни один журнал не осмеливались публиковать что-нибудь подобное. Лишь некоторым академикам (Кедрову, Семенову) разрешено было корректно оспаривать научные основы того учения, которое Лысенко называл мичуринским.
Из повести «Тысяча дней…» явствовало, однако, что действия Лысенко надлежит обсуждать не в научном форуме, а в уголовном суде. Я приводил десятки примеров его аморализма, стоящего на грани (а точнее, за гранью) преступления. Когда повесть была напечатана, меня пригласили в ЦК КПСС для беседы (очевидно, в отдел науки или сельского хозяйства). Мне показали десятка два «писем трудящихся»: доктора и кандидаты наук, заведующие кафедрами и директора институтов, не скрывая своей симпатии к Лысенко, негодовали по поводу моей повести и призывали ЦК наказать автора. Меня и наказали: два года не печатали…
В эту пору я затаился, притих, хотя и продолжал тайно писать биографию Вавилова. После 1968 года (события в Чехословакии) опасность попасться с этой рукописью в руки КГБ стала еще более реальной. На мою беду, западные газеты, хотя и с опозданием, обратили внимание на повесть «Тысяча дней…». Пересказы и рецензии на нее появились в газетах Австрии, Югославии, Швейцарии, а под конец в лондонской «Тайме». Меня в моей квартире навестил агент КГБ, предупредил уже не столь отечески, как в прокуратуре, но все еще корректно, чтобы я не вздумал использовать известные мне секретные факты в разговорах с иностранцами и тем более в своих статьях и книгах. После этой беседы я понял: ореол «официозного» писателя больше не защищает меня. Мне больше не доверяли, за мной присматривали, как говорят в России, ко мне «подбирали ключи». И подобрали, хотя и не сразу.
В 1969 году я закончил первый вариант своего труда. Начиная с 1970 года рукопись «Беда и вина академика Николая Вавилова» появилась в обращении среди московской и ленинградской интеллигенции. В океан самиздата я ее не выпускал, но несколько экземпляров книги постоянно курсировали по стране: верные люди увозили их из Москвы в Среднюю Азию, в Киев, в Воронеж, на Дальний Восток. Думаю, что прочитали о трагедии Вавилова в те годы никак не меньше пяти-семи тысяч человек. Мое имя на рукописи, разумеется, не значилось.
![«Мы — там и здесь» [Разговоры с российскими эмигрантами в Америке]](/uploads/books/images/b5/b580faa0aa2fe66b2e4ab892819ebb47d23cc222.jpg)