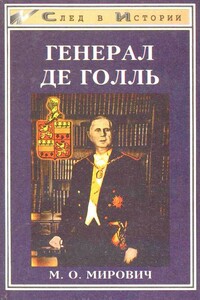Отцу также удалось выучить меня русскому языку, закону божьему и математике. Шведский, который я до отъезда из Швеции знал, вскоре был забыт. У нас в доме говорили по-русски, а с друзьями по уличным играм я объяснялся по-русски или по-немецки.
Что касается русского языка, отец учил меня и читать и писать. О том, чтобы халтурить в грамматике, не могло быть и речи. У меня была и русская «Арифметика», с которой мать любила появляться в самое неподходящее время. По сей день я точно помню, до какой степени был мне ненавистен этот учебник. Мать кричала на меня, она, вероятно, просто подавила во мне все мысли, которые хоть как-то соотносились с математикой. Даже такое простое действие, как 7 + 8, было почти совершенно мне не под силу.
Среди русских книг я любил больше всего волшебные сказки с прекрасными гравюрами на дереве. Они до сих пор со мной, и я нет-нет да и полистаю их. На зачитанных до дыр страницах я пытался рисовать, там налезают друг на друга дома и звери, а рядом располагаются следы неуклюжих попыток изобразить цифры. Самая красивая из моих сказочных книг называлась «Жар-птица» и была издана в России в 1909 году.
Но я не думаю, что получал когда-либо удовольствие от любых занятий, за исключением пения. Зато не могу вспомнить, чтобы я хоть когда-нибудь пел с отвращением. Пение с самого начала было средством самовыражения, для меня оно было почти что естественнее, чем речь. И когда я стоял там, в хоре, и пел, я испытывал своего рода освобождение, смешанное с чувством счастья и гордости. И прежде всего в праздники. Тогда так ясно чувствовалось, что я, еще такой маленький, был наравне со взрослыми, пел с ними вместе. И одновременно бывали минуты, когда мне начинало казаться, что я пою даже лучше их. Какое-то залихватское чувство, ощущение безграничных возможностей.
Когда в зале для собраний устраивались торжественные вечера, меня часто ставили на стул и просили спеть. После этого появлялись тетки и дядья — братья моего отца, тискали меня, чмокали и стрекотали, как я мил в моей маленькой косовороточке и как чудно я пел. Приходило опьянение успехом, словно пресыщение сластями, которые мне в избытке давали после выступления.
Желая для меня хоть небольшой домашней компании, мои родители раздобыли молоденького кенара, которого мы окрестили Канареем. Он был фантастический певун. Моя мать разрешала ему летать свободно по всей квартире. В одно солнечное утро я проснулся от того, что птица сидела на карнизе для занавесок и беспрерывно пела. Я лежал, слушал и все думал: как же ей удается так петь? Она что, не дышит совсем? Ах, если бы мне научиться петь, как мой кенар!
Тут произошло нечто очень странное: птица слетела вниз и села мне на грудь. Я лежал абсолютно тихо, кенар допрыгал до моего лица и начал будто целовать меня. После этого он стал совершенно ручным. Ел пищу прямо у меня изо рта, а когда я одевался, кенар вертелся рядом и играл моими чулками и бельем. Он щипал меня до слез, распускал перья, нахохливался, чтобы выглядеть ужасно важно. И не переставая пел.
Родители решили, что Канарею надо завести жену, мы купили желтенькую птичку и окрестили ее Эльзой. Я стоял и смотрел на них, когда они справляли свадьбу — высоко, на карнизе для занавесок. Они вывели двух птенцов, которые благополучно выжили. Мальчика-канарейку я назвал Чириком, а прелестную девочку — Розой. Маленькие дети канареек тоже стали ручными, чего нельзя было сказать об их матери Эльзе. Канарей учил Чирика петь. Как славно было за обеденным столом наблюдать за птицами, когда те садились нам най’ плечи или свободно разгуливали между тарелками.
Жизнь моя теперь состояла из пения, музыки и игры с моими маленькими птичками. И товарищами. Я думаю, что рос вполне нормальным ребенком. Иногда я веселился, часто бывал ужасно непослушным. Не так уж редко погружался в меланхолию, что, по-видимому, было проявлением славянской крови. Позже я испытывал приступы глубокой тоски и, когда это случалось, любил заводить пластинку с русской православной музыкой, чаще всего хоровой. Эту музыку я ощущаю как самую приятную для слуха, по-настоящему прекрасную. Я не хочу утверждать, что эта тоска, меланхолия — мученье для меня, скорее я черпаю ни с чем не сравнимое наслаждение в таком душевном состоянии. То же самое было, когда я был ребенком.