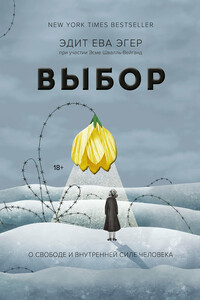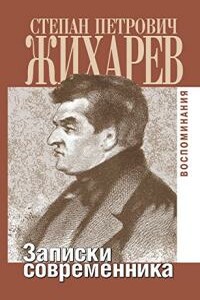В первую очередь дети учатся, наблюдая за нами: что мы делаем и как поступаем. Но они редко прислушиваются к нашим назиданиям. Если домашняя атмосфера, созданная взрослыми, такова, что не разрешается выражать свою злость или гнев вымещается довольно травматическим для других способом, дети в такой семье быстро усваивают: иметь сильные чувства непозволительно, а иногда эти чувства и небезопасны.
Многие привыкают лишь реагировать — реагировать, но не отзываться на происходящее. Нас чаще учили прогонять свои эмоции — подавлять, залечивать таблетками, прятаться от них.
Один из моих пациентов — врач, подсевший на сильнодействующие рецептурные препараты, — как-то раз позвонил мне рано утром: «Доктор Эгер, я вдруг понял прошлой ночью, что ведь в Аушвице не было никакого [антидепрессанта] прозака». Понадобилось некоторое время, чтобы переварить услышанное. Необходимо четко разграничивать, когда люди от тоски забрасывают в себя таблетки и когда нуждаются в приеме необходимых лекарств, потенциально способных спасти их жизни. Но врач верно подметил. Хотя сам, чтобы избавиться от переживаний, обратился к внешним подпоркам в виде наркотических средств, в которых совершенно не нуждался.
Ничто извне не попадало в Аушвиц. У нас не было ни единого средства помочь себе стать бесчувственными, притупить боль, избавиться от страданий хоть на какое-то время, забыться и стереть из памяти реальность мучений, голода и неминуемой смерти. Нам оставалось лишь стать хорошими наблюдателями: внимательно следить за каждым своим шагом и точно оценивать происходящее. Мы должны были научиться просто быть.
Но я не помню, чтобы когда-нибудь плакала в лагерях. Я была слишком занята выживанием. Чувства пришли позже. И когда они пришли, я еще долгие-долгие годы умудрялась избегать их и прятать глубоко в себе.
Невозможно исцелить то, чего не чувствуешь.
Как специалиста по посттравматическому стрессовому расстройству, имеющего долгую, постоянную практику лечения американских военных, меня пригласили работать в комиссию по делам военнопленных. Каждый раз, когда я приезжала в Вашингтон по делам комиссии, кто-нибудь обязательно да спрашивал, посетила ли я уже Мемориальный музей холокоста. У меня был опыт возвращения в Аушвиц, я стояла на той земле, где когда-то меня разлучили с отцом и матерью, — под тем небом, которое приняло моих родителей, когда их плоть стала дымом. Зачем мне ходить в музей, где мне будут рассказывать об Аушвице и других лагерях смерти что-то вроде «был там, сделал это»? Что нового мне там скажут? Приблизительно так я и думала.
Прошло шесть лет моей работы в комиссии, и все шесть лет я не стремилась переступать порог музея. Но вот однажды утром сижу я в нашем конференц-зале за столом красного дерева, мое имя выгравировано на стоящей передо мной маленькой табличке, и меня вдруг осеняет. Я осознаю, что было тогда и там и что есть сейчас и здесь. Я доктор Эгер. Я выбралась.
Пока я обходила стороной Мемориальный музей, пока убеждала себя, что не нужно мне вновь сталкиваться с прошлым, поскольку я уже преодолела его, — видимо, какая-то часть меня все еще оставалась там, в лагерях смерти. Часть меня еще не стала свободной.
Именно поэтому, собрав всю свою волю, я пошла в музей. Как я и боялась, это оказалось мучительно. Меня переполняли чувства, и я едва могла дышать, когда увидела фотографии платформы, на которую в мае 1944 года в Аушвиц прибывали поезда. Потом я подошла к вагону для скота. То была точная копия старого немецкого железнодорожного вагона, который был предназначен для перевозки домашней скотины, но в котором перевозили нас. Посетители могли забраться внутрь и оценить, насколько это место было темным и тесным; почувствовать, каково было здесь находиться, когда людей набивали так плотно, что приходилось сидеть друг на друге; вообразить, как на сотни людей могло быть одно ведро для воды и одно ведро для испражнений; представить, как мы ехали и день и ночь без остановок и единственной едой была буханка черствого хлеба, выдаваемая на восемь, а порой на десять заключенных. Перед входом в вагон я застыла, словно парализованная. За мной толпились люди, молча и с почтением ожидавшие, когда я зайду внутрь. Тянулись долгие минуты, а я не могла это сделать; мне понадобились все силы, чтобы заставить себя поднять сначала одну ногу, потом вторую и втиснуться в узкую дверь.