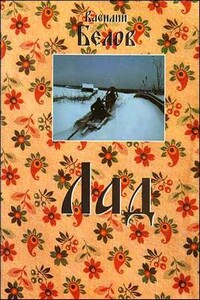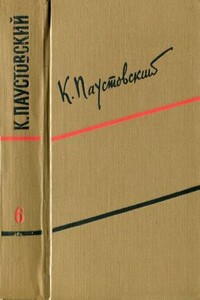Еще не прошла обида на мертвого старшину Надбайла, который сказал во сне Лаврухину: "До чего ж ты упрям, Балябинец!" "Поискать бы, у кого из деревенских не было прозвища! -- подумалось Лаврухину. -- Что ни мужик, то и прозвище".
Откуда пошло? Когда приклеилось такое звание -- Баляба?
Давно дело было, вроде бы еще при Александре-освободителе. Благочинный на пару с урядником подъехали в коляске к отводу. Орава ребятишек, как воробьи на мякину, бросились открывать деревенские ворота, чтобы пропустить коляску в деревню. Давняя эта ребячья привычка -- открывать и закрывать отвода! За работу проезжие давали деткам гостинцы, особенно когда ехал купец или начальник.
Правил коляской сам благочинный. "Останови кобылу, батюшка, -- сказал урядник, держа шашку между колен. -- Надо ублаготворить отроков. Давай-ко развяжи калиту..."
Благочинный открыл саквояж, чтобы достать гостинцев.
Урядник подозвал самого большого мальчика, подал горсть ландрину: "Отдай, братец, самому маленькому, разделите на всех..."
Коляска запылила деревней. Отвод имелся и с другого конца. Орава кинулась к другому отводу, чтобы поживиться и в том конце. Второй раз не вышло. Ребятишки вернулись, сбились в кучу и начали делить ландрин. Вышла потасовка. Самым младшим в ораве был как раз будущий прадед Лаврухина. Конфеты у него отобрали, он же сидел в траве и ревел от обиды во все горло. Всем гуртом начали утешать, но ребятенок не мог толком выговорить ни одного слова, лишь повторял одно: "ба-ля-ля, ба-ля-ба..." Он и говорить как следует еще не умел. С той дальней поры и пристало к Лаврухиным прозвище...
Вновь и вновь солдат перечитывал письмо, думал о жене. Трое деток теперь. Оравушка! Чем будут кормиться? Когда уезжал, то оставалось пуда полтора ячменя. Мать Устинья сушила зерно на печке, собираясь изопихать в ступе и смолоть на ветрянке. Весь запас харчей, выданный авансом на трудодни, умещался в этом мешке. Мать Устинья дюжа только куделю прясть, еще колыхать зыбку. Все остальное ляжет на Дуню. Открылась война. Никто и не думал.
О, как не вовремя все началось! Жена беременна, скотный двор не достроен, сено не докошено. Мобилизовали всех здоровых, начиная с пятого года рождения, кончая восемнадцатым. Осталась в деревне одна браковка. Еще и теперь в ушах бабий рев вперемежку с пьяной гармошкой. Тот же Гришка Демкин уезжал поперек телеги. Бабы ревели в голос, без слов, как младенцы. Не причитали, просто вопили...
Почему Лаврухину не пришло ни одного письмеца с начала войны? Сам-то писал все время и номер полевой почты указывал правильный. Ох, что баять про номера! Цифра она и есть цифра...
Дочка вспомнилась, конечно, не младшая, старшая, Манька. Еще совсем кроха, только этой осенью в школу. Хорошо хоть училище в своей деревне. Лаврухин улыбнулся, вообразив щербатую Маньку бегущей на уроки с холщовой сумкой, куда кладут букварь с тетрадками и задачник. Сын Мишка, этот ходит в школу за семь километров. Большой стал! Пахать выучился, в ту весну, перед самой войной. Не худо и плотничал, ежели при отце. Бегает уж, наверно, за девками. Остался Мишка за хозяина, да ведь что, тоже еще малолеток!
Гордился Лаврухин, что парень учится после четвертого класса. Вот кончит семь-то классов, глядишь, на агронома пойдет либо на летчика...
-- Дмитрий Михайлович, а ты чего это так разулыбался? -- спросил командир расчета. -- И за кипятком не бежишь.
-- Да я, товарищ сержант, посуду-то выбросил. Зимой стограммовку и то плеснуть было некуда, прострелило у меня фляжку-то. А сейчас, понимаешь, родину вспомянул. Парень у меня, сын Мишка... Пойдет в семую группу нонешной осенью.
Все оглянулись на громкий лаврухинский голос, даже капитан, командир батареи, улыбнулся:
-- Сын, говоришь? Ну-ну. Это хорошо, Дмитрий Михайлович, что сын. У меня дочка такая же...
Капитан был москвич. Работал до армии учителем, и Митька никак не мог привыкнуть к тому, что называют его по отечеству.
Лаврухину хотелось сказать и про Маньку с ее выпавшим и за печку брошенным зубиком. Побоялся солдат быть надоедливым, оттого и замолк. А фляжка, простреленная немецкой пулей, была действительно выброшена. Добра была посудинка, да пришлось расстаться. Котелок тоже расстрелян, как человек. Но Лаврухин отрезал от кабеля кусочек свинца, заклепал дыру. Служит котелок не хуже и прежнего.