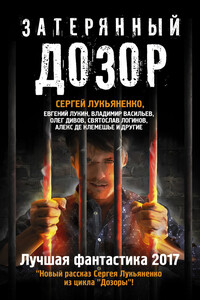— Чтоб, значит, в голову сильней шибало, — с пониманием кивнул агент. — Лихо. Однако, если это часто повторять, мозг в солонину обратится.
— Ничуть не бывало. Взгляд светлеет, сознание проясняется, а речь становится необычайно плавной и разумной.
Граф Бенедиктов, правивший Русско-Океанским наместничеством, слыл сибаритом. Рассказывали, что его ставка в Александрове-Паланском — волшебный сад чудес, прямо-таки Версаль или Альгамбра, Эдем в субтропиках. Скирюк, агент и даже отец Леонтий ждали, когда Володихин разгорячится напитками и поведает, как обольстительные паланки в одних юбочках из перьев (грешно, зато красиво) умащают полунагого Бенедиктова, паланы овевают наместника опахалами, а на ветвях гибискуса поют райские птицы.
— Это ничего, господа, что у нас тундра! — веселился Володихин, приняв чарочку горячительного. — Зато мы обеспечиваем приток капиталов, — он потёр мясистыми пальцами воображаемые монеты. — У Александрова-Паланского морской бобр не водится, и рыбы там не густо. Без тех долларов и соверенов, которые стекаются к Пойнамуширу, ел бы Бенедиктов репу с постным маслом, а не печёнки райских птичек в винном соусе…
Скирюк попытался нюхнуть соли под текилу по примеру графа Константина. Смелого канцеляриста едва не пришлось отливать. Сочли, что соль не того помола, слишком крупная.
Протопоп Логинов сочным, глубоким, внушительным голосом рассказывал Володихину, как айны охотятся на тюленей:
— …и камнем в голову. Прямо в темечко. Кость трещит, мозг выступает… Восчувствуйте, господин полковник, каково это — камнем в голову.
Логинов был замечательный рассказчик. Володихина зримо передёргивало.
Вдруг в канцелярию ворвался казак, стоявший на посту снаружи.
— Ваше высокоблагородие! Ссыльно-поселенный Дивов просит допустить его до вас!
— Toujours lui![1] — во гневе встал Володихин. — Как он здесь очутился?! он же должен сидеть в рыбном пу!
— Не могу знать, ваше высокоблагородие! Должно быть, убёг из пу. Явился растрёпанный, в нижней рубахе и подштанниках, как под арест садился. Сказывает за собой слово и дело государево…
— Ну, если врёт!.. Веди его сюда.
Незадачливый бунтовщик, гусар и гуляка, ныне порядком одичавший, запутавшийся в амурах с ряпунками и камчадалками, предстал коменданту босым, в одном исподнем.
— Говорите, господин Дивов, зачем пришли. О вашем побеге из-под ареста побеседуем позднее. Ну-с, милостивый государь, я жду!
— Господин комендант, имею доложить о важном происшествии, — трезво и чётко отрапортовал Дивов. — Только что, часа не прошло, как я собственными глазами наблюдал русалку и имел с ней разговор на французском языке.
— Это у нас «слово и дело» такое, — клюнул агент пьяной головой.
— А на Благовещенье он бегал с топором и кричал, что-де на упырей охотится, — ядовито заметил Скирюк, кое-как отдышавшийся от понюшки соли. — Еле-еле ряпунцы на него сеть набросили, иначе б порубил кого-нибудь в бреду. Белая горячка, ваше высокоблагородие! Он ведь у нас того-с… фантаст!
Володихин скептически усмехнулся. В подпитии он был добр, насколько может быть добрым имперский полковник. Так, бывало, и говорил о себе в минуты откровенности: «Au fond, je suis bon».[2]
— Приберегите свою сказочку до Рождества, господин Дивов! Если сочините пару приличных святочных рассказов — приходите к Скирюку на ужин… в декабре, не ранее. А об охоте за упырями и свиданиях с водяными девами — забудьте. Я прощаю вам визит в столь экстравагантном облике…
— Вы, дражайший Сергей Петрович, истинно милосердный христианин! — умилился Логинов.
— …но за побег прибавлю два дня ареста. На сколько ему было велено сесть в амбар? — справился комендант у канцеляриста.
— На трое суток, ваше-ство!
— Отец Леонтий, в моё отсутствие вы чудесным образом смягчили сердце Скирюка. Или Дивов поделился с ним шампанским… Сколько бутылок он приговорил?
— Семь-с, в одно горло.
— Итого десять суток. Извольте вернуться в пу, господин Дивов, иначе вас проводят казаки.
— Бей, но выслушай, — упрямый гусар не двинулся с места. — Ваше высокоблагородие, я действительно узнал нечто важное. Если вы услышите это через неделю из других уст, принимать меры будет поздно.