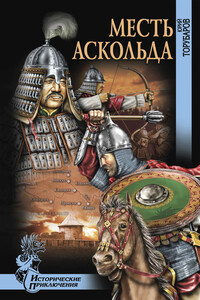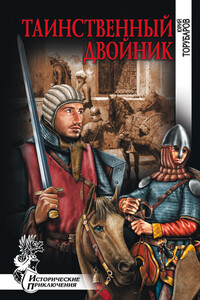— Ты чей-то, Ульянушка, мимо бежишь? Никак возгордилась. Аль забыла, чья ты подружка была? Да и кумушки мы с тобой. — Ну куда той деваться? Пришлось остановиться, не хватало, чтобы потом по людям глас пошёл, что, мол, Ульяна заспесивилась.
— Ничего я не забыла, — Ульяна затеребила платок, — просто... скоро должны мои вернуться, обед варить надобно. Жеромы они у меня ой какие. Да Фёдора мойво ты знаешь.
— Все мужики одинаковые. А времечко-то ещё есть, — Прасковья взглянула на солнце, оно ещё не очень высоко оторвалось от земли, и лукаво посмотрела на подружку.
Та намёк поняла.
— Ну, как у тя телушка-то растёть?
— Растёть, куды ей деваться! А у тя?
Разговор явно не клеился, был каким-то натянутым, но торопливо прошмыгнула мимо Марфа.
— Здравы будьте, тетуся Прасковья, — сказав, дева стыдливо опустила голову, слегка покраснела.
Горячо зыркнув глазищами, она заторопилась, словно её кто-то хотел остановить.
— Ой, краса кака! — Прасковья произнесла эти слова сладким голоском. — Ой, кума, глаз за ней нужен. Глаз. Смотри... Замуж ей пора.
Мать машинально посмотрела вслед удаляющейся дочери. Тяжело вздохнула.
— А ты не вздыхай, чем мой Ягор плох? А? Девки ему проходу не дают. А он... нет. Марфа, чую, в его сердце вошла. И чё бы нам их не поженить? А?
Ульяна опустила голову, искоса взглянула на бывшую подругу.
— А, понятно. Фёдор твой... того... как же, земец! А давно он им стал? Да если бы не... Ну, ладно. Мой Ягор, може, ещё и боярином будить. Вон он каков!
Ульяна молчала.
— Чего молчишь? Аль Фёдора бойся? Дак, ты... держи в руках мужика. Пущай попробует у меня Яван слово противу сказать, так я б его...
Она не стала дальше продолжать, а как-то полупрезрительно взглянула на Ульяну. Баба такого выдержать не могла.
— Ладноть, — выдавила она из себя, — посылай сватов.
Она давно была за такое решение. Егор ей был по душе. Да кто нас, баб, спрашивает? Цыкнет мужик, а то и вожжами отходит. И на этом... конец.
Вернулась Ульяна домой, а на душе словно кошки нагадили. Вырвалось как-то это согласие. А что дальше? И попробовала она пустить в «дело» всю свою женскую хитрость и ласку. Вечером, подсев к мужу, голоском запела ему на ушко, не желает ли он кружечку бражки аль медовухи. Привстал Фёдор с лежаня. Не поймёт, чё это с бабой. Раньше с устатку — и то со скрипом наливала. А щас... на тебе.
— Чё ето ты така добра? Аль чё надоть? Так говори.
— Федотушка, — она пододвинулась поближе, руку на его плечо положила, — да я... того, — сказала и замолчала. Боязно стало.
— Ну, чё, говори, — он пятернёй прошёлся по всклокоченным волосам, расправил усы.
— Да я щас, принесу.
— Ну, неси.
Она шустро спустилась в подвал и вернулась оттуда со жбаном в руке. Взяв с полки братину, подсела к мужу.
— Держи! — и подала ему братину.
Тот, ничего не понимая, посмотрел на сосуд, потом на жену.
— Лей, — видя её нерешительность, подтолкнул он.
Фёдор почти залпом выпил две братины. Хотел было и третью. Но жена поставила жбан на пол. Тот, расправив омоченные усы, произнёс ласково:
— Ну, сказывай!
Такое обращение её вдохновило.
— Федотушка! — стараясь произнести его имя как можно ласковее, начала она разговор. — Марфуша у нас стала видной девицей.
— Это так! — не без гордости произнёс он, как бы намекая, на кого она похожа.
— Дак... того... пора ей и в замужество.
— А чё, жених есть? как-то быстро произнёс он, глядя на супругу.
— Есть.
— Кто ж?
— Ой, парень хоть куды. Девки к нему, как пчёлы на мёд. А он... ни... Марфуша наша ему по душе. Да и она... на его заглядывается.
— Уж не Егор ли? — отодвигаясь, спросил он.
От его строгого, грозного тона ей стало не по себе. Но, ещё на что-то надеясь, робко произнесла:
— Ён!
Лицо Фёдора исказилось в гневе. Стало страшным, злым, отталкивающим.
— Да я... я... — он стал задыхаться, глаза его бешено забегали по комнатушке, ища что-то подходящее.
Ничего не найдя, он пустил в ход кулак. Как она увернулась от удара, одному Богу известно.
Вскочив, словно кто-то её подбросил, она юркнула в приспешную[3]