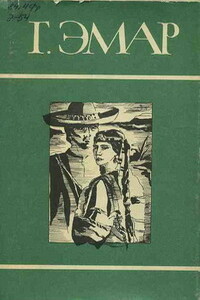— Настасья? — спросил Калистрат Ефимыч. — Аль нет? Тебе чего тут?
Темное, сухое, как старое дерево, лицо. Руки под тулупом шарятся. Наумыч сказал:
— Гости к тебе, Ефимыч, Гриппина.
Расталкивая снег, мечась телом, закричала Агриппина:
— Антихристы, христопродавцы! Чтоб вам ни дна ни покрышки… провалиться вам в преисподнюю, душегубы! Будь вы прокляты!
Наумыч, махая галицами, смеялся.
— Пойдем в избу, — сказал Калистрат Ефимыч, — нечо улицу срамить.
А в темных сенях зазвенели металлически ее руки.
Взвизгнул Наумыч:
— Листрат, берегись… режет!…
Мяли темноту трое.
Тыкал топор по стене. Темнота вилась и билась в крике бабьем:
— Грех… на душу, владычица Абалатская!… Душегуба, разбойника!
— Убью!…
…Рыжебородый Наумыч притащил Агриппину к загону, где заперли шамана, втолкнул ее и разозленно сказал:
— Резаться, курва? Мы те научим!
Потрогал труп шамана, перевернул вверх лицом и, сложив ему руки крестом, сказал:
— Поди, какой ни есть, а поп. Царство небесное!
Плакала у кровати Настасья Максимовна. Грудь как сугроб, а глаза — лед ледниковый.
— Решат так тебя, Листратушка. Не один, так другой!… Кабы не Наумыч, кончила бы она тебя, Гриппина-то.
Распуская зеленую опояску, говорил Калистрат Ефимыч:
— Меня кончат не скоро. Я стожильный. У ей, вишь, наши-то полюбовника убили… А может, и я убил?
Помолчал и, ставя пимы на печь, добавил:
— Пришло время — надо убивать. А пошто, не знаю… Микитин не велит. По-своему гнет. А убивать приходится.
— Кабинетски-то земли отняли?
— Отняли!… Как же!
— А теперь каки будут отымать?
— Найдется.
Взбивая подушки, сказала Настасья Максимовна:
— Я, Листратушка, мыслю пельмени доспеть и Микитина на пельмени кликнуть. Поди, так и покормить сердечного некому?
— Доспей!
…А в это время у поселка Талицы Власьевская волость давала бой атаманским отрядам.
Бежала у поселка и по долине сизо-бурая лисица — снег густой.
Бежал по земле снег, густой, сизо-бурый — лисица Обдорских тундр.
Били атамановцы из пулеметов, из орудий в повисшую над ними ночь. А ночь била в атамановцев — из пулеметов, из пушки древней, что вытащили из музея. Заряжали пушку гвоздями, тащили на лыжах, били в тьму.
Трещит поселок — горят пригоны. Сено — вверх в сизо-бурое небо! Алое сено вниз — в сизо-бурую землю.
Алый огонь поджигает небо — горят избы.
Трещит поселок — горит ветер от поселка, багровый! Люди бегут поселком в багровых рубахах.
— Восподи!
— Владычица, спаси и помилуй!
Железо не любит разговора — железо заставляет молчать.
У каждого двора убито по бабе. У каждых ворот по бабе. Нет мужиков — бей баб. Разворочены красные мяса чрева.
Бить кого-нибудь надо.
Бей, жги!
Бей снега, жги небо!
Аспидные пригоны. Алый огонь. Поднял пригоны, потряс над землей, рухнул. Желтые искры по земле, гарь в нос!
Смолистый дым в нос, в глаза! Сизоперый дым в грудь! Кашляют люди, а стреляют.
Из-за каждого угла, из-за каждого сугроба.
На лыжах белые балахоны — как сугробы.
Орут сугробы:
— Крой, паря!
Смолистый дым как заноза в глазу. А особенно когда своя изба горит.
Хромой мужик бегает по двору, кричит багровым криком:
— Дарья!… Фекла!… Сундуки-то в погреб. Сундуки-то прячь!
Надо же какой-нибудь бабе быть убитой у ворот. Лежит Дарья.
А пулемет за улицей, пулемет на улице. Пулемет в поле.
— Товарищи-и, не поддавайся!
— Прицел шестнадцать–четырнадцать, Кондратьев!…
— Есть!…
У атамановцев черные погоны. У мужиков нет погон. Умирают на веселом, сизо-буром снегу атама-новцы и мужики.
Умирай, умирай!
Бей, жги!
Сам Калистрат Ефимыч приедет завтра. За ним шестнадцать волостей идет!… Бей, не унывай!
Хромоногий Семен на лошади, позади баба. Баба тяжелая, как воз. У лошади хребет тонкий. Лошадь боится пламени, несет, стонет.
Не нужно на лошади по улицам — по притонам не заметят. Бежит хромоногий по пригонам.
— Митьша, эвот на лошади-то один?
— Один? Двое. Бери на мушку.
Не выдержала лошадь, перегнулся хребет — пала. Нет, это сердце у ней не выдержало — пуля его расщемила. Дерево пуля разорвет — живет дерево, а лошадь не может.
Перегнулся хребет, как сугроб под ногой — издохла.
А в шубах те, двое, живы. Хромоногий и баба меж суметов ползут.
— Сенюшка, страсти-то какие!