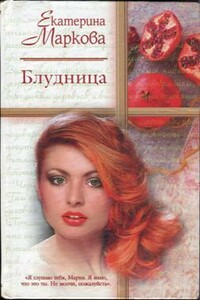— А вы, наверное, учились здесь когда-то? Да?
— Вот именно когда-то. При царе Горохе. В другой жизни, — засмеялась я.
Долговязый понимающе кивнул головой, опять хитро сощурился.
— А нас учат, что никакой другой жизни нет, есть одна-единственная, да и та принадлежит не тебе, а обществу.
Я опять засмеялась:
— Сочувствую вашим учителям — если в головах учеников все ими сказанное потом таким образом перерабатывается.
Долговязый вдруг стал серьезным и очень конкретно сказал:
— Зачем вы все время смеетесь, когда вам… совсем наоборот? — Он зашагал к крыльцу, махнув на прощание рукой. Потом вдруг в два прыжка вернулся и посоветовал: — А вы не расстраивайтесь. Нам сегодня историк рассказал, будто на обратной стороне перстня царя Соломона, знаете, что было написано: «И это пройдет…»
И, разогнавшись, долговязый одним ударом пропихнул в дверь визжавшую пробку…
И если умирает человек,
с ним умирает первый его снег,
и первый поцелуй, и первый бой…
Все это забирает он с собой.
Ноги принесли меня к моему первому… всему. Остальное потом было неправдой. Может быть, случается, что первое остается последним… Только, наверное, надо много прожить, чтобы понять это. Мой провокатор-подсознание копило во мне все эти долгие годы свой, безжалостный приговор. Сквозь череду промелькнувших дней проступило единое: сейчас я жила исполнением своего жгучего затаенного желания.
Ноги несли меня к прокладному полукружию арки, к старинной террасе из потемневшего дерева, к голубятне, к незатейливым лужайкам из желтых одуванчиков.
Мое стесненное дыхание будто экономило силы для полного глубокого вздоха. Я знала, что лишь во дворике я наконец продохну, словно лишь воздуху моего детства будет дано, как тому долговязому, единым толчком пробить возникшую преграду. Я знала: там наступит долгожданный покой, когда мой разум и совесть, освобожденные великодушием прощения, соединятся в гармоничном понимании содеянного за долгие годы. Я отдавала отчет, что стремлюсь даже не к прощению: кому или чему дано быть судьей жизни человеческой? Я хотела быть понятой…
Наверное, это было непозволительной роскошью — в придачу к моей благополучной жизни…
Мутные затеки на стекле вдруг поплыли, извиваясь, стали расползаться и корежиться, искажая до неузнаваемости знакомую картину двора. Телефонные звонки, затихнув ненадолго, вновь наполнили квартиру резкими неуместными звуками. Мой Макаркин тщетно взывал ко мне…
Так далеко от него я еще никогда не была.
Инстинктивно я протерла глаза.
Картинка моего двора встала на место. На детских качелях, подпихиваемый в спину несколькими парами ладошек, бесстрашно взмывал к небу, мелькая зачиненными пластырем коленками, мой дикошарый сын.
Я давно не плакала. Пожалуй, с той самой минуты, когда, ничего не понимая, как вкопанная, я замерла перед тем местом, куда принесли меня ноги.
Я тупо глядела тогда на аккуратные дорожки, посыпанные песком, на зеленые свежевыкрашенные скамейки, на густую зелень скверика, по какой-то невероятной ошибке занявшего место дворика Игоря Турбина.
Из глубины сквера холодно и строго светили окна какого-то учреждения, голые, не утепленные занавесками или шторами.
Изумленно посмотрел на меня прохожий в очках.
Участливо глянули глаза толстой женщины с раздутыми хозяйственными сумками в обеих руках.
— Почему плачет тетя? — заинтересовался важный щекастый малыш.
Женщина с сумками виновато улыбнулась.
— Митюша, не отставай. Держись за сумку. У тети, наверное, соринка в глаз попала. Ты ведь сам знаешь, как это больно, когда в глаз попадает соринка!
По моим ногам прогрохотал игрушечный самосвал на длинной веревке, опрокинулся от неожиданной преграды. Оглушительно заревел щекастый малыш.
Нагнувшись, я поставила самосвал на колеса.
— Ну, вот и все в порядке. Не реви. Просто случилась небольшая авария.
Малыш радостно всхлипнул, выставил вперед указательный палец.
— Сама ревешь…
Женщина поставила тяжелые сумки на асфальт, потянула малыша за руку.
— Митюша, не приставай к тете, пойдем.
— Скажите, вы здесь давно живете?
Женщина сочувственно обвела взглядом мое мокрое от слез лицо.