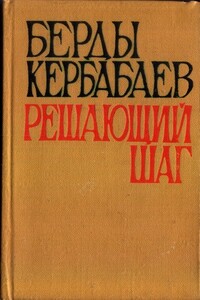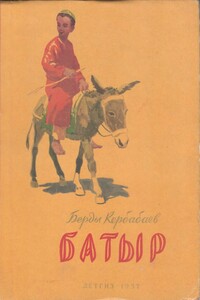— Мне стыдно, — сказал Кайгысыз, — что за последний год я не читал толстых книжек. Но я был полезен людям, и они были полезны мне. Я учился у народа. И потом… Память тоже учит. Я был босоногим мальчишкой, когда старик, сгорбленный, как рыболовный крючок, всю жизнь трудившийся на нашей скудной земле, сказал мне: «Жизнь — пустой орех». За что же он был обойден счастьем? Я тогда не понял, а запомнил на всю жизнь. Где тут нравственное начало?
В комнату вошла высокая девушка в розовом халате, беззвучно поставила на стол чайники и посуду.
И снова завыл паровозный гудок, ему ответил другой. Тревожная перекличка продолжалась несколько минут. Друзья неподвижно слушали это безнадежное пение.
Когда гудки стихли, Абдыразак спросил Агалиева:
— Ну, а ты что думаешь обо всем этом?
Мурад вскочил на ноги и по-военному отчеканил:
— Думаю, как Атабаев! Нужно идти к красным и воевать!..
"Не грусти… Твоя победа… Не грусти… Твоя победа…»
Стучали, стучали колеса на стыках рельс. Пыльные теплушки, крашенные коричнево-красным баканом, катились на запад. В открытых дверях одной из теплушек, опираясь на перекладину, стоял среди новобранцев Кайгысыз Атабаев в латаной и вылинялой гимнастерке, в солдатских штанах — пузырях на коленях, в грубых сапогах с просторными голенищами. Хорошо, когда обдувает лицо апрельский ветерок, хорошо, когда бескрайняя степь чуть подернулась нежно-зеленым цветом. Хорошо, когда солдатские эшелоны движутся на запад — не на восток.
Атабаев щурился от солнца, лениво жевал сухой хлеб, запивал мутной теплой водой из солдатского котелка.
«Не грусти… Не грусти… Твоя… Твоя победа…»
Все эти дни, когда медленно двигались на запад, к фронту воинские эшелоны с молодым пополнением, не было времени не то, чтобы грустить, но даже и поспать. Политработа в войсках — дело круглосуточное, и Атабаев все время был среди красноармейцев. Тут были старые унтер-офицеры, провоевавшие уже много лет: от галицийских полей в дни Брусиловского прорыва до этих солончаковых степей, где вдали, на горизонте, покажутся вдруг два десятка всадников, отстреляются бесприцельно по катящимся теплушкам и сгинут за барханами… Тут были и молодые ребята — туркмены из ближайших аулов. Они сами приходили и просили их взять, и Атабаев уже в пути разбирался, — зачем они пришли воевать: то ли от ненависти к баям и байскому бесправию, то ли с голодухи, чтобы подкормиться.
Все входило в обязанности политработника — и прокормить голодных людей, и свести в баньку на какой-нибудь станции, где эшелон замер ночью на запасных путях, и рассказать под стук колес, — зачем воюем, против кого идем, что будем делать, когда победим.
«Кто не трудится — тот не ест», — вот и вся коммунистическая программа, понятная и близкая каждому, кто всю жизнь не знал светлой доли. И бедняки понимали Атабаева, просили — «учи стрелять…» А он и сам хорошо не умел. Какой он солдат… Он только и годится в войсках, чтобы прояснять голову туркмена-красноармейца. Когда-то Нобат-ага завещал ему: «Где бы ты ни был, помни, что ты туркмен. Не изменяй своему народу…». И вот оказалось, чтобы оставаться туркменом, надо стать большевиком.
На закате проезжали бесконечно огромный аму-дарьинский мост. Атабаев, глядя в серебристую даль великой реки, рассказывал своим бойцам, как в прошлом году отстояли этот мост. Здесь наступали белые. Эшелоны шли на восток… Это плохо, когда на восток. И было так много поездов, что останавливались где попало: конница и пехота разгружались на ночлег в зыбучих песках — пустыня пестрела до самого горизонта. Вдали шла артиллерийская дуэль бронепоездов… Чарджоуские коммунисты заняли позиции перед мостом и вели неравный бой. И были уже такие среди них, кто предлагал уйти и взорвать мост. Но отважные люди, — а они пришли сюда не только из Чарджуя, но и из Мерва и Теджена — не струсили. Дальнобойная артиллерия белых посылала снаряд за снарядом, разрывы вздымали воды Аму-Дарьи. А уйти нельзя, потому что этот огромный мост — не веревка, которую можно сегодня порвать, а завтра связать. Видите, как долго поезд идет над рекой!.. Самый большой мост во всей Советской стране.