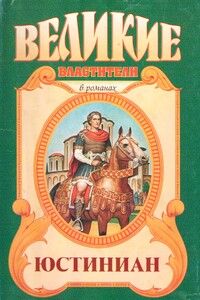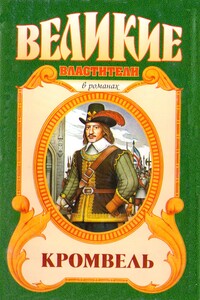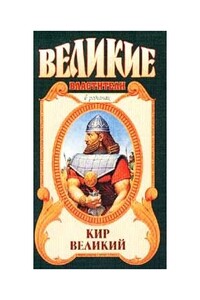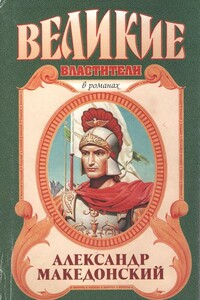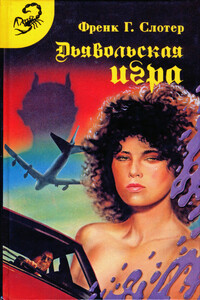— Нет, доминус. Пульс еще есть, но еле прощупывается.
— Приведи его в чувство, приведи, если можешь. Я должен узнать всю правду об этой истории.
— У него на груди в тунике был документ, доминус. Его пробило копье охранника.
— Его еще можно прочесть?
— В основном да. — Врач передал ему лист пергамента с изображением императорского шлема. Внизу стояла подпись Константина. Содержание документа не вызывало сомнений, несмотря даже на то, что он пропитался кровью старого полководца. Это был приказ начальнику гарнизона казнить Дация; но хотя его удостоверяли и личная печать Константина, и то, что выглядело его подписью, сам он видел его впервые.
— Это подделка! — Константин поднял глаза и встретил недоверчивый взгляд врача. — Ты наверняка это поймешь. Стал бы я убивать своего сына и совсем еще мальчика, да еще человека, научившего меня всему, что я знаю?
— Кажется, Даций считал его настоящим, доминус.
— Но зачем он пытался убить императрицу?
— Не знаю, доминус. Но он бы сумел это сделать, если б охранник не бросил в него копье. Она, конечно, была потрясена и обезумела от ужаса, поэтому я дал ей выпить маковой настойки и попросил ее фрейлин приготовить ей горячую ванну. Ты знаешь, как она любит их принимать.
Константин понимал, что ничего не добьется, если станет расспрашивать Фаусту. Ее привычка лежать часами в парящей горячей ванне не раз уже вызывала у него раздражение, но после таких процедур она всегда становилась сговорчивей, и потому он не стал предлагать ничего другого.
— Постарайся привести его в чувство, — приказал он врачу. — Я должен узнать побольше об этом таинственном документе.
Из небольшого ларца доктор достал пузырек и, откупорив, поднес его к носу Дация. Резкий запах содержимого даже Константина заставил закашляться. Даций открыл глаза.
— Этот приказ — подделка, Даций, — поспешно заговорил Константин, надеясь, что умирающий не потеряет снова сознание до того, как ему удастся узнать у него что надо.
— Но как…
— Не знаю, но я выясню это.
— Ты клянешься?… — приступ кашля не дал ему говорить.
— Своей верой в Иисуса Христа и надеждой на спасение я клянусь, что никогда до настоящего момента не видел приказа о твоей смертной казни. Ты сказал, что и Крисп, и Лициниан оба мертвы?
— Да. Обезглавлены…
— Почему ты пытался убить Фаусту?
— Я был уверен, что это она обманом заставила тебя подписать эти смертные приговоры. Крисп рассказывал мне, как она той ночью одурачила его в своей спальне. Он проводил ее домой, но, когда стал уходить, она бросилась ему на шею и закричала, чтобы ты услышал.
— Но зачем?
— Ты собирался поставить Криспа августом Запада, в обход ее собственных сыновей.
Все объяснялось так просто, что он обругал себя за свою слепоту, хотя в глубине души всегда подозревал что-то такое, но только ему не хотелось смотреть в лицо правде. И вот потому-то — Константин понял это сейчас — пали на плахе и сын его, и Лициниан, и теперь умирал Даций, а бремя вины за их смерть оставалось нести лишь ему одному.
— Почему Крисп не рассказал, что произошло на самом деле? — спросил он.
— Мальчишка был без ума от нее — и пьян. Он точно не знал, что сделал и что не сделал. — Голос умирающего постепенно ослабевал. — Обещай мне, что она будет наказана…
— Будет. Я клянусь. — Слова рождались из глубины, где сердце его разрывала мука при мысли о Криспе, красивом, подающем большие надежды, отважном, срубленном топором палача, — и все из-за безжалостного тщеславия женщины.
— Она будет наказана, — повторял и повторял он машинально, уставившись в стену глазами, слепыми теперь ко всему, кроме боли разбитого сердца. Константин не знал, что Даций уже перестал шептать и дышать, пока врач не сказал ему тихо:
— Он умер, доминус. Можно, я подготовлю его тело к похоронам?
Рыдание вырвалось из груди Константина и, не обращая внимания на окровавленную повязку, что могла запачкать его тунику, он привлек к себе мертвое тело старого друга, и слезы струились у него по щекам. Он долго предавался своему горю, плача не только о Дации, но и о сыне, и юном Лициниане. Затем взял себя в руки и с окаменевшим лицом поднялся и двинулся к двери.