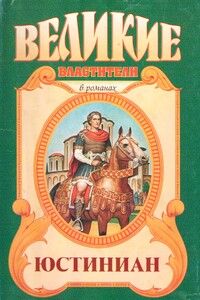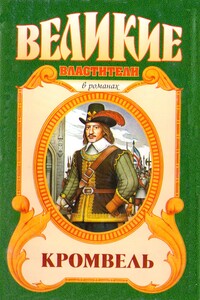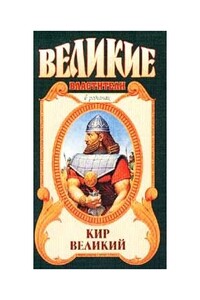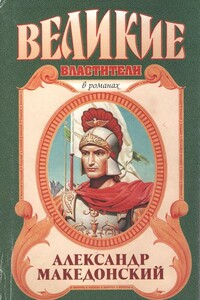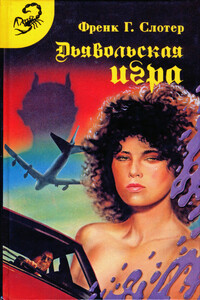— А имея за своими плечами три четверти империи, — добавил Даций, — мы без особого труда должны справиться с оставшейся четвертью.
Мистриан, посол Лициния, оказался высокого роста, с волосами стального цвета и орлиными чертами лица. Сенатор и потомок старого аристократического рода, он был явно преисполнен сознания высокой значимости своей персоны.
— Я явился к тебе, август, — заговорил он елейным тоном, — в надежде, что распрю между тобой и мужем твоей сестры августом Лицинием можно уладить, прислушавшись к велениям человечности и благоразумия. Продолжение военных действий не принесет обеим сторонам ничего, кроме вреда, а это, конечно, вызовет восторг в лагере наших общих врагов на Рейне и Дунае и, возможно, подвигнет их к нападению. К тому же, — добавил он, быстро взглянув на Константина, чтобы убедиться в действенности своих слов, — исход сражения ни в коем случае еще не решен.
Константин не стал возражать, поскольку, как они с Дацием растолковывали Криспу, это в основном было правдой. Более того, он сам нуждался в периоде относительного мира, чтобы за это время упрочить позиции, отвоеванные им за столом мирных переговоров. И ради этого он готов был пойти на некоторые уступки Лицинию.
— Поэтому я уполномочен, — продолжал Мистриан, — предложить следующие условия разрешения конфликта от имени двух представляемых мною августов.
— Августов! — гневно вскричал Константин, чувствуя вдруг, как красная пелена застилает ему глаза.
— Императора Лициния и императора Валента, — пояснил Мистриан, но теперь уж с гораздо меньшей уверенностью.
— Отвергнув одного неблагодарного шурина в лице Бассиана, приму ли я теперь себе в соправители презренного раба? — ледяным тоном осведомился Константин.
— Наверное, ты не видел декрета, в котором командующий Валент провозглашался августом…
— Поскольку это сделано без моего согласия, декрет недействителен, — решительно сказал Константин. — Между прочим, когда Валента произвели в августы?
— Вчера, после сражения.
— Цена за то, что он не отдал мне шурина?
Мистриан так и замер с изумленно раскрытым ртом, а Константин услышал за спиной тихий хохоток Дация. Сомнений быть не могло: он попал пальцем в самую середку их хитрого плана. В обмен на то, что его не выдали в руки Константина, Лициний наверняка отдал руководство честолюбивому Валенту и столь же честолюбивому Мистриану. И теперь эти двое старались извлечь из мирного урегулирования как можно больше пользы для себя.
— Передай августу Лицинию, что первым пунктом любого мирного договора, который мы заключим, будет низложение Валента, — распорядился Константин. — Оповести его также о моих условиях: провинции Паннония, Далмация, Дакия, Македония и Греция должны стать частью моих владений.
— Ты много запрашиваешь, август.
— Напротив. Я проявляю щедрость, оставляя моему другу и брату Фракию, Малую Азию, Келесирию, Египет и области, вырванные у Персии.
— Я передам твои условия, — обещал Мистриан, но Константин еще не закончил.
— Передай моему брату Лицинию также и то, что сегодня я назначаю моего сына Криспа цезарем Галлии, Британии и Испании, — приказал он.
Крисп стоял возле его стула, высокий, прямой, в форме трибуна. Услышав заявление отца, он весь напрягся, но молчал, хотя Константин уловил восторженное выражение его глаз. Мистриан поспешно удалился, не дожидаясь, пока к этому добавятся еще какие-нибудь условия, и присутствовавшие в палатке военачальники окружили Криспа, поздравляя его с новым назначением.
— Ты этому рад, цезарь? — спросил, улыбаясь, Константин, когда они остались в палатке вдвоем.
— Рад… но чувствую себя недостойным, государь.
— Я и сам чувствовал себя недостойным, когда после смерти моего отца в Британии легионы провозгласили меня императором.
— Но ведь ты уже десятки раз доказывал, чего стоишь.
— Как, надеюсь, поступишь и ты.
Крисп встал на колени и снял с себя украшенный перьями шлем. Затем положил руку Константина себе на голову и произнес:
— Клянусь всеми, какие только есть, богами: я сделаю все, что в моей власти, и докажу, что достоин твоего доверия.
Константину очень хотелось прикоснуться к светлозолотым кудрям, открывшимся ему, когда Крисп снял свой шлем, но он с усилием удержался, не желая нарушать торжественность церемонии и существовавшие правила. Это был момент редкого тепла и близости между отцом и сыном, которых судьба разделяла большую часть их жизни, и он знал, что всегда будет этим дорожить.