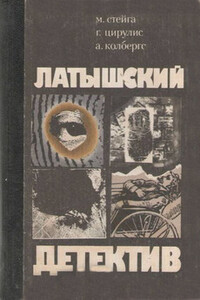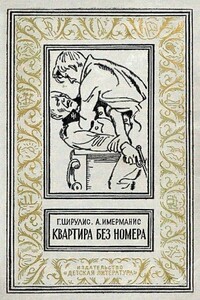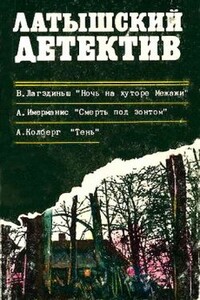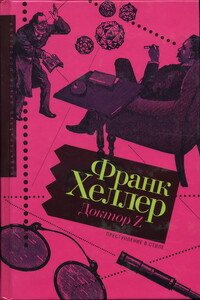– Тачки там не было.
– А как вы сами это объясняете?
– Наверно, она понадобилась Графу и он прикатит ее обратно.
– А где сейчас можно найти Грунского?
– Не знаю, надо подождать. Иногда он пропадает неделями. У него такая натура: никогда не скажет, куда идет и когда вернется.
– Я напомню, что вы говорили при первой нашей встрече. Тогда вы сказали, что около полудня вы вместе с Грунским вышли из своего домика в Садах, что возле большой дороги вы расстались – он пошел прямо, а вы свернули налево. Вы сказали, что хотели в тот день навестить детей брата, который живет на улице Иередню. Было около двух часов пополудни – ни вы, ни Грунский тачку с собой не взяли. Куда же она вдруг могла исчезнуть, если накануне утром соседи видели, как вы везли на тачке топливо?
– Я не помню.
– Что вы не помните?
– Мне нельзя пить спиртное, тогда у меня полностью пропадает память.
Так продолжается уже шесть часов.
Часы на церкви Петра проиграли «Рига гремит», звуки мягкими клубками скатываются по черепичным крышам старого города и через форточку сыплются в нашу маленькую келью, здесь стихая. Говорят, шестьсот лет назад малый колокол церкви Петра возвещал о начале и окончании рабочего дня. Самое время напомнить об этом Ивару, который опять демонстрирует свою завидную трудоспособность.
Допрос Цепса начал я, но часа через два уже выдохся, а Ивар работает вот уже целых четыре, причем усталости в нем не заметно. Если бы успех определялся длительностью допроса, то ходить бы ему в корифеях.
Я вдруг подумал, что, должно быть, прошло много времени – на улице тихо, не слышно проезжающих трамваев, на привокзальной площади машины возле светофоров не тарахтят вхолостую моторами, лишь время от времени одиноко прошуршит шинами промчавшееся такси. Наше здание тоже погрузилось в дремоту, не верится, чтоб в такой поздний час кто–нибудь здесь работал. В коридорах и на лестнице горит свет, но шагов нигде не слышно.
Только на нижнем этаже, в дежурной части, где не отличишь день от ночи, жизнь кипит, как всегда, тревожно звонит телефон: в милицию ведь звонят только в исключительных случаях. Слышны короткие приказания, выезжают на задания и возвращаются оперативные группы.
Есть ли смысл продолжать допрос? О чем только мы не говорили! Вспомнили даже биографии дедушек и бабушек! Но как только дело доходило до самого важного для нас, Цепс тут же пускал в ход свое универсальное средство: «Мне нельзя пить спиртное, тогда у меня полностью пропадает память!» Но спиртное он пил, разумеется, чуть не каждый день, а память у него пропадает именно в тех случаях, когда нам с Иваром это наименее выгодно. Он ничем не выдает, что знает: Грунский мертв. Нам уже почти все ясно, покоя не дает лишь одна деталь – круглый предмет, которым Грунскому был нанесен удар по затылку.
Когда мы обыскивали домик Цепса, обшарили все сверху донизу и еще вдоль и поперек, но предмета, которым могли убить Грунского, не нашли. Ничего похожего, чем можно было бы сделать такую рану. Затем мы так же старательно обыскали сарайчик и сад. Присматривались даже, нет ли следов свежевскопанной земли: предмет могли закопать. Мы поставили себя на место Цепса, и таким образом, среди прочих, у нас появилась версия, в связи с которой пришлось обыскивать даже ближайшие огороды. Мы предположили, что хлороформ Цепс подлил к водке или к вину заблаговременно. И вероятнее всего – в одну из тех бутылок, которые Грунский прятал за спинкой своей кровати. Деньги на покупку вина Цепсу, может, и удалось бы раздобыть, хотя он сам взялся вести хозяйство, и только он имел право делать покупки. Малейшее нарушение этого порядка влекло за собой суровую порку – Грунский бил Цепса плеткой, сплетенной из тонких тросиков с растрепанными концами, и от порки на теле оставались рваные раны, которые долго не заживали. Бил он, по–видимому, жестоко, с особым удовольствием. Значит, у Цепса не было никакой возможности использовать другие бутылки, кроме тех, которые стояли за кроватью в изголовье. Он мог осторожно отогнуть металлический колпачок бутылки, отлить часть содержимого и добавить хлороформа до нужного уровня.