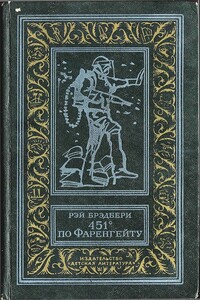Джим знал каждый сантиметр собственной тени, мог вырезать из черной бумаги свой силуэт, свернуть и поднять на флагштоке собственным знаменем.
Вилл иногда с удивлением обнаруживал сопровождающую его тень, но не задумывался над этим.
— Джим? Ты не спишь?
— Не сплю, мам.
Дверь отворилась, потом закрылась. Он ощутил, как прогнулась кровать под весом матери.
— Что это, Джим, у тебя руки как лед. Не надо открывать окно так широко. Помни о своем здоровье.
— Конечно.
— Не говори так — «конечно». Ты не знаешь, что значит иметь троих детей и сохранить только одного.
— У меня их вовсе не будет, — сказал Джим.
— Легко говорить.
— Я знаю. Я все знаю.
Она помешкала.
— Что ты знаешь?
— Нет смысла делать еще людей. Люди умирают. — Его голос звучал очень спокойно, тихо, почти печально. — И все.
— Почти все. Ты здесь, Джим. Без тебя я давно сдалась бы.
— Мам. — Долгое молчание. — Ты помнишь папино лицо? Я похож на него?
— В тот день, когда ты уйдешь, он уйдет навсегда.
— Кто уходит?
— Понимаешь, Джим, даже лежа здесь, ты так быстро бежишь. В жизни не видела человека, который и во сне двигался бы так энергично. Обещай мне, Джим. Куда бы ты ни успел — возвращайся с кучей детишек. Пусть растут здесь. Дай мне баловать их — когда-нибудь.
— У меня никогда не будет того, что может причинить мне боль.
— Ты собираешься коллекционировать камни, Джим? Не выйдет, настанет день, когда боль тебя не минует.
— Не настанет.
Он посмотрел на нее. Лицо матери не оправилось от давнего удара, метины вокруг глаз не разгладились.
— Ты будешь жить и не избегнешь боли, — произнесла она во мраке. — Но когда настанет час, скажи мне. Попрощайся по-доброму. Иначе я, быть может, не отпущу тебя. Разве это не ужасно — схватить и не пускать?
Внезапно она встала, чтобы затворить окно.
— Почему это вам, мальчикам, непременно надо, чтобы окно было распахнуто настежь?
— Кровь горячая.
— Кровь горячая. — Она стояла в одиночестве. — В этом источник всех наших печалей. И не спрашивай — почему.
Дверь закрылась.
Джим, оставшись один, отворил окно и высунулся наружу под безоблачное ночное небо.
«Гроза, — мысленно спросил он, — ты на подходе?»
Да.
«Чувствую… там на западе… мчится сюда, здоровила!»
На дорожке внизу лежала тень громоотвода. Он вдохнул прохладный воздух, с силой выдохнул жаркое возбуждение.
«Почему, — спросил он себя, — почему бы мне не залезть на крышу, сорвать громоотвод и сбросить его вниз?»
И поглядеть, что из этого выйдет.
Вот именно.
Поглядеть, что из этого выйдет.
Вскоре после полуночи.
Шаркающие шаги.
По пустынной улице шел продавец громоотводов, его кожаная сумка качалась почти пустая в бейсбольной руке-рукавице, и лицо его ничего не выражало. Он завернул за угол и остановился.
Легкие белые мотыльки мягко стучались в окно пустой лавки, заглядывая внутрь.
А там внутри, подобно погребальной ладье из стекла звездного цвета, на двух козлах, как на мели, покоилась глыба льда «Аляскинской Арктической Компании», достаточно большая, чтобы украшать своими переливами перстень великана.
И в этой глыбе была заточена самая прекрасная женщина в мире.
Улыбка продавца громоотводов исчезла.
В сонном холоде льда, словно пролежавшая так тысячу лет и сохранившая вечную юность, лежала эта женщина.
Она была светла, как приближающееся утро, свежа, как завтрашние цветы, прелестна, как всякая дева, которую мужчина, закрыв глаза, запечатлевает изумительной камеей на раковине своих век.
Продавец громоотводов вспомнил о необходимости дышать.
Однажды, давным-давно, странствуя среди мраморных скульптур Рима и Флоренции, он видел женщин вроде этой, только заточенных не в лед, а в камень. Однажды, бродя по залам Лувра, он наблюдал женщин вроде этой, орошенных летними красками и запечатленных в живописи. Однажды, мальчишкой, прокрадываясь в поисках свободного места через прохладные гроты за экраном кинотеатра, он глянул вверх и увидел там величаво парящее в призрачном свете женское лицо, какого никогда больше не доводилось видеть, таких размеров и такой красоты, сотворенной из млечной кости и лунной плоти, что он застыл на месте в своем одиночестве за экраном, завороженный движениями ее губ, порханием ее век, снежно-бледно-смертно мерцающим свечением ее щек.