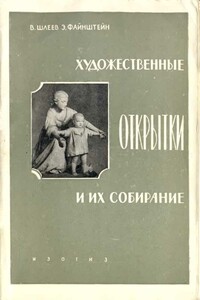Что нам делать с Роланом Бартом? Материалы международной конференции, Санкт-Петербург, декабрь 2015 года - страница 24
Когда в «Риторике образа» Барт разбирает рекламу макарон «Пандзани» и, в частности, расположение овощей, которые, словно под воздействием собственного веса, вот-вот вывалятся из хозяйской авоськи, внушая нам тем самым идею изобилия, он отмечает, что таким образом внушаемое нам означаемое – эстетическое. Уточняя свою мысль, Барт пишет о «натюрморте»[111] и ставит это слово в кавычки, так как имеется в виду специфический код – терминология истории искусства. Поскольку здесь также имеет место как бы цитата, почерпнутая из иной сферы мысли и лексики, мы понимаем, что в данный момент Барт использует одновременно оба типа кавычек.
А как обстоит дело с их морфологией? Попробуем все немного упростить, оставив в стороне их облик в разные времена, как и некоторые вариации – впрочем, вполне реальные – между романским и англосаксонским языковыми регионами. Кстати, в русском языке, насколько нам известно, использование кавычек достаточно точно соответствует французскому. Будем пока рассматривать эти их различные морфологические применения как варианты. А вот вопрос о субстанции – это вопрос другого порядка. Кавычки не являются частью алфавита. Не производя и не модифицируя никаких звуков, субстанция кавычек не является фонической. Все указывает на то, что она чисто графическая. Она связана с фигурой и рисунком. Условный знак кавычек, то есть перевернутая запятая, будь она одинарной или двойной, прямой или обратной, со времен Средних веков воспроизводит начертание запятой. Запятая же («virgule») на лексико-этимологическом уровне восходит к «прутику» («petite verge»), слову, означавшему веточку или, в переносном смысле, мужской половой орган небольшого размера. Ясно, что кавычки выходят за рамки алфавитного кода. Они принадлежат скорее к рисунку, чем к артикулированной речи. Тем самым кавычки разбрасывают по тексту предупредительные «сучки», маленькие сигнальные «веточки», которые, как хлебные крошки Мальчика-с-пальчика, призваны держать читателя на правильном пути. И в то же время запятая, по простоте ставящего ее жеста, представляет собой элементарную форму «начертания»: первоначальный нажим и конечное ослабление. При большем нажиме она стала бы царапиной и испортила бы текст. На военном жаргоне «запятая» может также означать «шрам». Наша запятая останавливается на границе прорыва и раны.
Мы далеки от стремления использовать здесь кавычки, чтобы плодить метафоры в духе плохого подражания Барту. К тому же в сказанном выше можно узнать отголоски некоторых его размышлений о каллиграфии или его восхищенной статьи о каллиграфическом алфавите Эрте (псевдоним петербургского художника Романа Петровича Тыртова). Барт «прочитывал» в придуманных Эрте буквах попытку вдохнуть жизнь в «двойное плетение» языка. Главная черта кавычек, как и их прародительницы запятой, – это своеобразная жестикуляция или вписанная в знак телесность. Эта телесность, к которой Барт в конечном итоге надолго привязался, гораздо меньше ощутима в алфавитном письме, где господствует кодификация. За исключением случая, к которому как раз и подводит наш контекст: письма от руки, то есть другого облика кавычек. Вспомним бартовский анализ картин Сая Твомбли, опубликованный в 1979 году. На взгляд Барта, американский художник-абстракционист прекрасно интерпретировал изучаемые палеографами «начертания», то есть непрерывное рукописное письмо, которое в работах Твомбли останавливается на пороге письма алфавитного. Благодаря своей «курсивности» и подразумеваемому в ней «бегу»