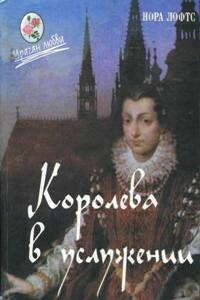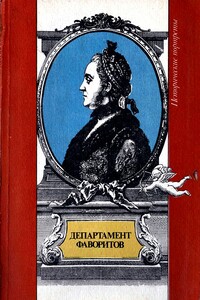Это время года жители Юнити проводили в своих садах, отбраковывая померзшие зимой клены, которые затем распиливались на дрова для будущего года. В это время года расцветали персиковые деревья, и весенняя лихорадка была в разгаре. Обычно в такое время Мэтт Эйвери работал сверхурочно, но в этом году он даже перестал подходить к телефону. Старый дуб до сих пор стоял, хотя остался без листьев. Люди поговаривали, что он завывает на ветру. Мэтту было наплевать на это дерево; он, привыкший подниматься в половине шестого утра без всякого будильника, теперь не мог выбраться из кровати. Он слушал, как брат гремит посудой на кухне, заваривая кофе, и болтает по телефону с Лизой, а сам лежал, укрывшись с головой, убеждая себя, что встать, одеться, почистить зубы или просто дышать слишком тяжело.
Мэтт стал жертвой гриппа, мощного весеннего вируса, от которого вскипала кровь и кружилась голова, а еще ломило кости и мучил кашель, сотрясавший все ребра. Возможно, он заболел потому, что совсем не сопротивлялся болезни: потеряв диссертацию, он, как ему казалось, потерял все. Мир перестал его интересовать. За что бы он ни брался в этой жизни, все шло наперекосяк. И теперь Уилл вставал чуть свет; тот, кто привык просыпаться не раньше полудня, теперь с первыми лучами солнца смешивал протеиновые коктейли. Тот, кто предпочитал виски и джин, теперь пил одну только минеральную воду. И совсем невероятным было то, что Уилл Эйвери пристрастился бегать. Он покидал дом в шесть и не возвращался до восьми; тогда Мэтт слушал, как брат насвистывает в душе какую-то прелюдию Шопена, от которой можно было спятить, если хочешь только тишины и покоя.
Уилл начал давать уроки музыки, приспособив под это дело их старенький «Стейнвей», тот самый, на котором они учились в далеком детстве: тогда и выяснилось, что у Мэтта нет слуха, а Уилл наделен от природы способностями. Вообще-то учитель сказал их матери, что Уилл — настоящий талант, тогда как Мэтт… откровенно говоря, Мэтт — безнадежен. Так оно и было. А теперь он умудрился куда-то засунуть свою диссертацию, умножив и без того многочисленные неудачи. Пропала работа, итог его многолетнего труда, которую полагалось сдать в конце недели. Разумеется, у него остались какие-то записи и черновые варианты первых шести глав. У него была и последняя страница, та самая, которую он переделывал, когда случилась эта чертовщина. Найдется ли второй такой дурак, который не побеспокоился о том, чтобы снять копию с готовой работы? Нет, видимо, он один такой: двадцать лет потратил, чтобы завершить образование, но так и не добрался до конца.