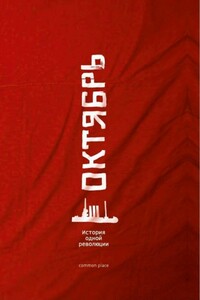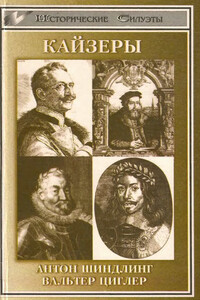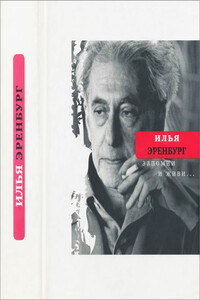Но ещё печальнее расставания на Курском вокзале было прибытие на киргизский полустанок Маймак. Этот момент тоже обрёл впоследствии художественную форму, например, в повести «Лицом к лицу»:
«Темна ночь в ущелье Черной горы. Но ещё непроглядней она на маленьком полустанке под горой. Время от времени темнота словно колышется от света и грохота поездов; поезда проносятся дальше, и снова на полустанке темно и безлюдно.
...Дневальный, вытянув шею, стоял у двери, напряжённо всматриваясь в темноту и прислушиваясь. В ущелье, как всегда, дул резкий ветер, за приземистой станционной улочкой, где-то под обрывом, натруженно, подспудно гудела река. По лицу дневального скользнул холодный тополиный лист — словно коснулась щеки дрожащая ладонь человека. Дневальный отпрянул, поглядел внутрь вагона. Потом снова выглянул: безлюдье, ветер, ночь...
Отгудели над рекой пролёты моста. Дальше — туннель. Паровоз, прощаясь, заревел во всю мощь своей глотки и двинулся дальше.
Всё глуше и реже постукивали рельсы, откликаясь на бег удаляющихся колёс.
Бурно вздыхали тополя. С гор тянуло запахом осенних выпасов.
Темна ночь в ущелье Чёрной горы...»
Так в жизни Айтматовых началась сплошная чёрная полоса. Самое страшное, конечно, заключалось в том, что после ареста Торекула, расстрелянного в 1938 году по обвинению в буржуазном национализме, на них стойко отпечаталось клеймо семьи «врага народа», которое Чингиз пронёс через детство, отрочество, юность.
А память об этой чёрной полосе осталась с ним практически навсегда, не стёрлась даже с ярким творческим взлётом конца 1950-х, в пору зенита его феерической славы. А когда в 1990 году были найдены, наконец, останки Торекула Айтматова в урочище Чон-Таш близ Бишкека, в братской могиле жертв сталинских репрессий, стало пронзительно ясно, что пережитое — это знак свыше, punctum saliens[6], магистраль айтматовской судьбы и творческого пути.
Война началась, когда Чингизу не было и четырнадцати лет, и тут же возникло острое желание попасть на фронт. Было в нём, наверное, что-то подростково-романтическое, мечта о подвиге. Юный Чингиз хотел доказать, какой у Торекула Айтматова героический сын. Писатель вспоминал: «Мы с братом очень переживали всё, что писали тогда о нашем отце. А я уже читал книги о разведчиках-чекистах и втайне мечтал, чтобы меня послали поймать какого-нибудь шпиона и чтобы я поймал и погиб, чтобы доказать таким образом невиновность моего отца перед Советской властью»[7].
Как свидетельствует Роза Айтматова, Чингиз несколько раз пытался записаться добровольцем, с друзьями тайно ездил в райцентр и обращался с заявлениями в военный комиссариат, но ничего из этого, конечно, не вышло — он был слишком молод.
Несомненно, на фронт звало чувство патриотизма и ненависти к врагу, чуть ли не на каждом углу висевший знаменитый плакат военных лет с изображением молодого солдата в будёновке и с указующим пальцем: «А ты записался добровольцем?» побуждал к действию.
И всё же, всё же... Героическая гибель на фронте виделась ему прежде способом избавления от позорного клейма сына «врага народа». Это был некий морально-психологический комплекс, бремя, тем более невыносимое, что само честное имя отца оставалось таковым в глазах сына, и восстановить его, каких бы нечеловеческих усилий это ни стоило, было истинным сыновним долгом.
Это бремя Чингиз Айтматов пронёс через всю жизнь.
Потеря отца, детство, а затем пятилетнее военное отрочество стали той почвой, тем богатейшим жизненным источником, откуда он, уже будучи писателем, писателем всемирно знаменитым, одной из знаковых фигур всей советской империи, постоянно черпал вдохновение, и черпал обильно.
Однако поразительно то, что, как и многие миллионы жертв сталинизма, ни Чингиз, ни его близкие во всём этом видели не политику Иосифа Сталина, а преступные заблуждения тех, кто его окружал. Свидетельством этому является первый и в общем-то забытый рассказ Айтматова «Газетчик Дзюйо», опубликованный в 1952 году в газете «Советская Киргизия». Сам Чингиз Торекулович не любил вспоминать свой дебют — по всей видимости, открытое восхваление политики диктатора устами японского мальчика, раздающего газеты на улицах Токио, его явно смущало. Рассказ не вошёл ни в одно собрание сочинений писателя ни при жизни, ни после его смерти. Да и никакой художественной ценности он не имеет — типичная проба пера, незрелое упражнение начинающего, может, даже просто попытка заявить о себе, затронув политически актуальную тему.