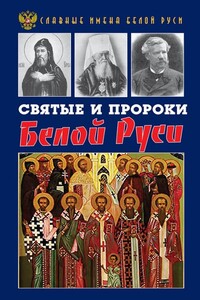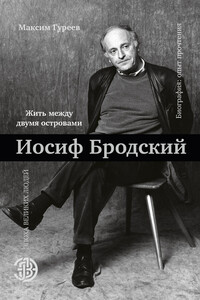В повести «Прощай, Гульсары!» есть такие строки: «Гульсары смирно стоял, прикованный к одному месту, а его кто-то искал. Он слышал ржанье маленькой гнедой кобылицы, той самой, вместе с которой вырос и с которой всегда был неразлучен. У неё белая звезда во лбу. Она любила бегать с ним. За ней уже стали гоняться жеребцы, но она не давалась, убегала вместе с ним подальше от них. Она была ещё недоростком, а он тоже не достиг ещё такого возраста, чтобы делать то, что пытались сделать с ней другие жеребцы.
Вот она заржала где-то совсем поблизости. Да, это была она, он точно узнал её голос. Он хотел ответить ей, но боялся раскрыть издерганный, опухший рот. Это было страшно больно. Наконец она нашла его. Подбежала лёгким шагом, поблескивая при луне белой звёздочкой во лбу. Хвост и ноги её были мокрые. Она перешла через реку, принеся с собой холодный запах воды. Ткнулась мордой, стала обнюхивать, прикасаясь к нему упругими тёплыми губами. Нежно фыркала, звала его с собой. А он не мог двинуться с места. Потом она положила голову на его шею и стала почёсывать зубами в гриве. Он тоже должен был положить голову на её шею и почесать ей холку. Но не мог ответить на её ласку. Он не в состоянии был шевельнуться. Он хотел пить. Если бы она могла напоить его! Когда она убежала, он смотрел ей вслед, пока тень её не растворилась в сумеречной тьме за рекой. Пришла и ушла. Слёзы потекли из его глаз. Слёзы стекали по морде крупными горошинами и бесшумно падали у ног. Иноходец плакал первый раз в жизни».
Но эти слова Айтматов напишет гораздо позже, а в «Джамиле» он больше касался духовных, эмоциональных сторон любви. Эта любовь пробудила в Сейите поэта, художника, который теперь совершенно по-другому смотрит на мир, на людей, на самого себя, на брата. Твёрдо решив, что уедет в город, он пускается в собственное интеллектуальное приключение, ищет свой собственный путь в жизни.
«Я впервые почувствовал тогда, — исповедуется лирический герой, — как проснулось во мне что-то новое, чего я ещё не умел назвать, но это было что-то неодолимое, это была потребность выразить себя. Да, выразить, не только самому видеть и ощущать мир, но и донести до других своё видение, свои думы и ощущения, рассказать людям о красоте нашей земли так же вдохновенно, как умел это делать Данияр. Я замирал от безотчётного страха и радости перед чем-то неизвестным. Но я тогда ещё не понимал, что мне нужно взять в руки кисть.
Я любил рисовать с детства. Но песни Данияра всполошили мою душу. Я ходил точно во сне и смотрел на мир изумлёнными глазами, будто видел всё впервые....
Глядя на Джамилю, мне хотелось убежать в степь и криком кричать, вопрошая землю и небо, что мне делать, как мне побороть в себе эту непонятную тревогу, и эту непонятную радость. Мной овладело то самое непонятное волнение, которое всегда приходило с песнями Данияра. И вдруг мне стало ясно, чего я хочу. Я хочу нарисовать их»[15].
Вот Айтматов и нарисовал. Нарисовал, изживая «синдром Леонардо», свою Мону Лизу. Кстати, тот же самый «синдром», вернее сказать, внутренний сюжет описан ещё в одном рассказе Айтматова — «Плач перелётных птиц». Написан он намного позднее, в начале 1970-х, когда нерастраченная влюблённость героя оборачивается неодолимым желанием восполнить внутреннее опустошение, активным духовным творчеством, и сублимируется в непреходящий порыв к художественной самореализации.
Вернёмся, однако, к «Джамиле».
Конечно, нельзя сказать, что в повести описана какая-то совершенно исключительная в киргизском обиходе жизненная ситуация, что уход женщины от нелюбимого мужа среди киргизов является чем-то из ряда вон выходящим. Необычно только одно: подросток поневоле становится соучастником ухода жены своего брата с другим человеком и благословляет этот уход, эту историю любви своим чистым, неокрепшим умом, а ещё больше — сердцем. В жизни по-всякому бывает. Как однажды остроумно заметил Расул Гамзатов, события, аналогичные любовной истории Ромео и Джульетты, на Кавказе случались чуть ли не в каждом ауле, но не было своего Шекспира, чтобы описать их.