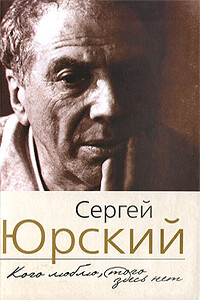Товстоногов ни разу (подчеркиваю — ни разу!) за двадцать лет, за сорок спектаклей, в которых я участвовал, не упрекнул меня в рационализме, в излишнем самоконтроле, в саморежиссуре. И за это я был ему безмерно благодарен. В работе с ним я всегда ощущал уверенность и подъем духа.
Вот пример. На выходе спектакль «Океан». Морской лейтенант Костик Часовников «психанул» и решил уйти с флота во что бы то ни стало. 2-я картина — пивной ларек на бульваре. Костик демонстративно напивается, дебоширит, и его забирает патруль. Товстоногов проходит сцену раз, два… и останавливает репетицию. «Знаете, — говорит он, — я думаю, что надо вообще обойтись без этой сцены. То, что его арестовали, понятно из дальнейшего, а это просто иллюстрация». Я: «Но все-таки забавная сцена. Всё говорим, говорим, а тут действие». Он: «Не вижу этого, всё стоит на месте. Если сцена забавная, то смешно должно быть, а сейчас несмешно». Крыть нечем. Мы с Призван-Соколовой (она играет буфетчицу) сидим, понурив головы. Мы сами чувствуем — не идет! Не цепляет сцена, и не слышно хмыканий шефа из зала. Репетиция катится дальше, а по окончании я подхожу к мэтру: «Георгий Александрович, на один раз еще оставьте «пьяную» сцену. Жалко ее. Мы сами попробуем ее наладить. Завтра посмотрите, будет несмешно — снимите». Поработали. Чуть сократили, убрали излишний «жим», уточнили логику. На прогоне услышали похохатывания Гоги и сдавленные смешки за кулисами. Сцена осталась и всегда шла на аплодисменты. А спектакль был сделан крепко — мы сыграли его 312 раз.
Это я к тому, что Г. А. мне доверял. Не случайно же, когда отмечали его юбилей в Тбилиси, на сцене театра Руставели, он предложил мне быть режиссером и ведущим всей программы, а это был очень ответственный для него вечер. Не буду множить примеры. Хочу объяснить только — когда он предложил мне поставить спектакль на сцене БДТ, я не удивился, я только очень испугался.
Вернемся к той роковой для наших отношений встрече, когда в конце 60-х я принес написанную мной пьесу. Это была инсценировка романа Э. Хемингуэя «И восходит солнце…» («Фиеста»). Я был влюблен в этот текст. Я даже не знал толком, какую роль я хочу играть, я просто мечтал произносить эти слова.
Гога молчал долго. Только через месяц вызвал он меня к себе.
«А как бы вы распределили роли?» — спросил он меня с ходу. Я стал называть варианты, но дипломатично (с бьющимся от волнения сердцем) сказал, что вам, Георгий Александрович, конечно, виднее… я полагал, что вы сами решите, если дойдет до…
«Я это ставить не буду. Мне нравится, но это не мой материал, — сказал он. И потом, это не пьеса, это уже режиссерская разработка, всё предопределено. Поставьте сами. А я вам помогу. Подумайте о распределении и покажите мне. Одно условие — вы сами не должны играть в спектакле. У вас хватит режиссерских забот. Терпеть не могу совмещения функций. Каждый должен заниматься своим делом».
Я был ошеломлен, испуган, захвачен врасплох, обрадован, и много еще чего было со мной в те дни. Я переговорил с коллегами актерами — кто может, кто хочет, кто верит, народа в пьесе много. Сговорился с ярким московским художником Валерием Левенталем об оформлении, с Семеном Розенцвейгом о музыке к спектаклю. Согласились играть Зина Шарко и Миша Данилов — тут всё очевидно, Зина была тогда моей женой, а Миша — ближайшим другом. Но согласились идти со мной на эксперимент и такие востребованные театром и кино мастера — Миша Волков, Владик Стржельчик, Гриша Гай, Эмма Попова, Володя Рецептер, Павел Панков — первачи БДТ. С этими списками я и пришел к Товстоногову.
Гога усмехнулся. Я увидел, что моя излишняя оперативность его слегка покоробила. Он ведь просил только ПОДУМАТЬ, а я уже переговоры веду.
«Ну начинайте, не мешая другим работам… — сказал он. — К какому примерно сроку вы рассчитываете показать в комнате?»
«Через сорок репетиций. Значит, если всё нормально, через шесть-семь недель».
«Какой же этап вы думаете показать через шесть недель?»
«Готовый спектакль».
Гога загасил сигарету и закурил новую.
Откуда взялась эта цифра — сорок репетиций? Да из его же опыта — из ритма работы самого Товстоногова! У меня, признаться, мания счета — и сознательно, и машинально всё считаю: ступеньки на лестнице, лампы в метро, шаги, вагоны в грохочущем мимо поезде. Считал я и репетиции и заметил, что настоящая толковая работа всегда почему-то укладывалась в это число — сорок. Исключения бывали, но всегда по причине особых обстоятельств и редко шли на пользу делу. В книгах о постановках раннего МХАТа, в сведениях о ритме работы театра Мольера, в беседах с Эрвином Аксером, возглавлявшим отличный варшавский театр «Вспулчесны» — везде всплывала эта магическая цифра — сорок репетиций. Вот я и назвал ее. Но вполне сознаю, что такая жесткая определенность сроков работы у начинающего режиссера со стороны могла казаться самоуверенностью или даже наглостью.