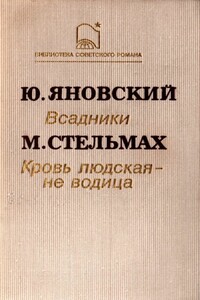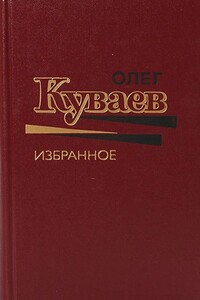— Да мы и вас можем взять на коней, — Роман, пригнувшись, подхватил Ярину, та завизжала и вырвалась из рук брата.
— Шальной! Недаром вас даже мама так называет.
— Это же любя, Яринка. Мама и тата обзывает то усачом, то ошалелым, а сама и до сих пор сохнет по нему. Правда же, девушка милая? — горбоносые красавцы тряхнули буйными чубами и поглядели на Мирославу.
— Опришки! — улыбнулась им девушка. — Спойте лучше.
— А какую? — соскочили хлопцы с коней. — У нас больше всего любят про любовь. Вы вот эту знаете? — Роман прижался плечом к плечу брата и задушевным, сердечным голосом спросил у далей:
Червоная калинонька,
А бiле деревце,
Чом не ходиш, не говориш,
Моє любе серце?..
И притихло все в степи перед чарами голоса, перед болью чьего-то сердца.
Когда Роман оборвал песню, Ярина деланно вздохнула, глянула на брата и прошептала одно слово:
— Артист.
— Замолчи, болтливая! — Роман грозно вытаращился на сестру, а Василь усмехнулся, поднял бровь, точно так, как отец.
Мирослава догадалась, что Яринка намекнула на какую-то комическую историю, одну из тех, которые, кажется, никогда не переводились в жилище Гримичей.
— Что это вы скрываете, Роман?
— Эге, так он и скажет, — прыснула Ярина. — Кому хочется свою персону выставлять на посмешище.
— Так тогда же Роман еще ребенком был, — примирительно сказал Василь. — Расскажи, брат.
— Наверное, придется, — смягчился парень и глянул на сестру. — А то если не расскажешь сам, так это зельечко приврет, словно цыганка на ярмарке…
— Эге ж, эге ж, — будто согласилась Ярина и подперла ладонью щеку. — Говори, уж если язык не присох к зубам.
— Так вот, лет восемь тому назад наш драмкружок ставил агитку: «Урожай при царях и при власти рабочих и крестьян». Чтобы всем было ясно, как родилось при царях и как родится теперь, каждую культуру мужского рода обозначали мальчик и парень, а женского рода — девочка и девушка, мелюзгу втискивали в мешочек, взрослых — в мешки, которые завязывали под самым горлом, а в чубы и косы всовывали колосья ржи, пшеницы и других злаков. На мою долю выпало играть роль дореволюционного ячменя. Завязали меня в мешочек, поставили рядом с дебелым Владимиром Клименко и приказали молчать до конца спектакля. Стою я, стоят завязанные дореволюционные и теперешние культуры, а руководитель драмкружка тычет в нас палочкой и какие надо цифры называет. Надоело мне стоять под этими цифрами и все терпеть, как бы не рассмеяться: ведь с переднего ряда то мать любуется мною, то отец усом подмаргивает, то школяры тычут пальцами в тебя, словно ты с луны свалился. Переминаюсь я с ноги на ногу, вдруг вижу: Клименко задремал в своем мешке. От этого дива я и засмеялся тихонько, а тут, как на грех, именно в это мгновение замолчал руководитель, и все услыхали, как я оконфузился. Вот и пошел гулять по рядам смех. А как уж отец с матерью хохотали, то и не спрашивайте. После спектакля собрались мы в хате, сели за стол, а тато так дружелюбно смотрит на меня и говорит:
«Не ожидал, сыну, что у тебя такие способности к игре на сцене».
«Какие там способности, — отнекиваюсь я, а в душе что-то и ёкнуло. — Мне же и слова не дали сказать».
«Что там слова, если ты стоял лучше всех и в самом деле был похож на ячмень».
«Да кто же меня видел в том мешке?» — верю и не верю я.
«Все видели! Вот пусть наша мама скажет».
«А как же, а как же!» — ласково отзывается от печки мама, и только Ярина кривит и зажимает рукой рот.
«А как уж ты засмеялся, так всех развеселил, — продолжает отец, — сказано — талант!»
«Ой тату…» — еще отнекиваюсь, а в голове на радостях мотыльки кружатся.
«Вот сам подумай: кто-нибудь хоть раз засмеялся, когда твой руководитель все слова говорил и во всех тыкал палочкой? Тебе же достаточно было прыснуть — и всех развеселил. А если бы еще запел? У тебя же вон какой голос! Так что, сыну, прямая тебе дорога в артисты».
И тем словом отец доконал меня, ибо нам всем мамина колыбель и степь голоса набаюкали.
После вечера тато со мной пошел спать на сено, и там, наедине, я отважился спросить:
«А что надо, чтобы стать артистом?»
Отец, не долго думая, ответил: