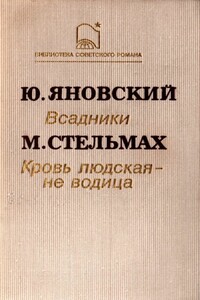— Если тебя нищенство не иссушило, то проживешь и в сушилке. Там даже стены пахнут сушеными фруктами.
В хату, сгибаясь, вошел Степочка, впереди себя он нес корытце с сотами, истекавшими душистым медом, в котором шевелились увязшие пчелы.
— Куда их, тату? Может, в бортницу?
— Ставь на стол. Пировать так пировать: бог послал нам… дорогого гостя.
Степочка понял, что лохмач, верно, был когда-то важной особой, и, уже приветливо улыбаясь ему, поставил корытце на стол, к которому была прилеплена свечка, да и снова ушел к дуплянкам. Магазанник зажег свечку.
— Перед богами, а не передо мной свети ее, — засмеялся Безбородько, прошелся по хате, и на каждый его шаг свечечка отвечала трепетом. Так, верно, и его, Магазанника, душа трепетала от шагов и слов этого жестокосердного проходимца.
Вскоре ноздреватая яичница пузырилась на черной, величиной с колесо, сковороде, которую Магазанник поставил прямо на стол, а возле нее появилась бутылка темноватой, уже по цвету соблазнительной «беззаботки», вишневый, с белыми разводами и маслянистыми слезами окорок, пропахший приправами, чесноком, дымком, огромный кусок сала, разрезанный накрест, свежеотжатый, с сеткой клеточек от полотна, творог и кольцо залитой смальцем колбасы, которую хозяин выколупнул из нарядного новенького бочоночка.
«Надо же хорошими яствами ублаготворить этого дьявола, чтобы не затаил злобы под тем сердцем, которое не знало и, видать, не знает жалости».
Дьявол в самом деле распогодился, а когда одним духом опрокинул чарку, удивленно и радостно вытаращил глаза на хозяина:
— Эта такая бешеная, что только причмокнешь! Где ты ее, стобесовую, достаешь?
— Есть у меня один дед, болотный черт, который мокруху настаивает на восемнадцати полезных травах и кореньях. От всех хвороб, кроме сердечных, помогает.
— Поэтому ты и здоров, как гром?
— Да еще, слава богу, есть сыромять в теле, — взглянул на потрескавшиеся черпаки рук, что тоже не гуляли без дела.
— А как здоровье у этого деда? — все еще не мог отдышаться после адской настойки Безбородько.
— Наверное, ничего, если в семьдесят лет, из-за недосмотра, как он сам сказал, расстарался на ребенка.
— Вот так недосмотр! — повеселел, засмеялся Безбородько, снова потянулся к чарке, и она сразу исчезла в диких зарослях его волос, что, казалось, тоже сочились весельем. — Роскошь у тебя, Семен, роскошь! Живешь ты — как сыр в масле катаешься. Потому и не хочешь новой власти?
— Нет, не хочу совать свою голову в чужую кринку, — Магазанник чокнулся с Безбородько. — Новая власть — это журавль в небе, да еще тот журавль, который несет не весну, а войну.
— Выходит, ты сдружился с большевиками? — снова стало злым лицо Безбородько, злее стали и буркалы.
Насупился и Магазанник.
— Болтаешь несусветное. Как я могу подружиться с большевиками, если они вот так держат меня в кулаке? Ты говоришь, у. меня роскошь в лесах. Да разве это роскошь, если каждый раз за малейшую прибыль должен дрожать: мол, и пасись, и стерегись! Я ведь только тогда выколупываю себе какой-то рубль, когда тайком проникну в здешний торг или махну куда-то. Но разве это коммерция, если постоянно от страха у тебя все валится из рук? Может, в моей голове сидит министр торговли, может, из моего котелка выроилось бы торговое золото и для державы, и для себя, а я должен ломать голову, как воровски раздобыть какой-то вагон под овощи-фрукты и как его погнать в Сибирь. Так откуда же у меня возьмется любовь к такой власти, которая прижимает мои мозги ниже гриба, что сидит в земле? — Из жалости к своим придушенным талантам Магазанник опрокинул чарку и тоже вытаращил глаза на Безбородько.
Того растрогала речь лесника. «Пожалуй, эта жерновообразная морда могла бы дорасти до какого-нибудь Терещенко или его последыша».
— Тогда какой же ты хочешь власти?
— Какой? — подумал Магазанник, и вдруг в погрустневшей зелени его глаз по-разбойничьи заиграли серые песчинки. — Той, которая вряд ли вернется. Не знаю, как тебе жилось на твоих полтысячах десятин, а я только и думал о своем черноземе, тучном, словно жиром смазанном. Помнишь, о чем мечтал в пьесе «Сто тысяч» Герасим Калитка? Я когда-то на сельской сцене играл этого Калитку и его слов не забуду до самого Страшного суда: «Ох, земелька, святая земелька, божья ты доченька! Как радостно тебя собирать воедино, в одни руки. Скупал бы тебя без счету!.. Едешь день — чья земля? Калиткина! Едешь два — чья земля? Калиткина! Едешь три — чья земля? Калиткина!» На такой земле я с радостью, отдыхая да бога благодаря, распластался бы крестом и лег бы под крестом, зная, что это мое.