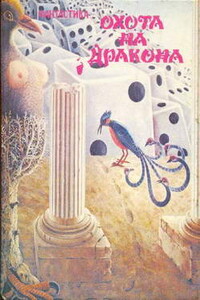Потом настала пора, когда я начал стыдиться своего прозвища, упорно стремился от него избавиться и дружил только с мальчишками. Встречаясь с Каткой, я краснел, и мы оба потупляли взор. Поздней она уже не опускала глаз, и это говорило о том, что она все легко и естественно забыла. А когда перестал краснеть я, это было лишь свидетельством того, что мое воображение стало гораздо более чувственным и похотливым.
Сейчас я уже не могу точно сказать, почему между нами — несмотря на удивительное сходство наших жизненных путей — не сохранилось даже просто приятельских отношений. Иногда я с улыбкой вспоминаю бабушкино вторжение, которое, видимо, пробудило в нас острое и стойкое чувство стыда и развело в разные стороны. Мы изредка встречаемся — два сельских жителя, которых в большом городе соединяет давняя история, — но через несколько минут меня охватывает чувство, будто мы с ней были все время вместе или по крайней мере в опасной близости, и я торопливо прощаюсь.
Я неохотно вспоминаю эпизоды уже завершившиеся, чисто мужские победы, которые подозрительно часто оборачивались личными поражениями. Зато мне нравится вызывать в памяти что-нибудь мимолетное, легкое, тающее, как туманы в начале лета. Я вспоминаю молодую женщину, которая подала мне руку, и у нас между пальцами вдруг проскочил электрический заряд, раздался треск, нас ударило — и мы отпрянули друг от друга и от неожиданности рассмеялись. Я вспоминаю студентку-заочницу, лаборантку фармацевтической фабрики, с которой я во время работы над репортажем даже не встретился, но много слышал о ее поступке: она неожиданно отказалась от унаследованной квартиры в пользу знакомого семейства с ребенком, а эти люди, по-видимому бессильные оценить этот непостижимый для них факт, стали распространять слухи, будто лаборантка — патологический случай. Позднее, уже лежа в больнице, я все думал, почему я ее не навестил, меня преследовало ее лицо, смоделированное из представлений, предчувствий и выдумок. И еще я вспоминаю одну девушку, ее взгляд, посланный мне по ошибке и на мгновение приоткрывший вход в заповедное королевство, бездонные глубины нежности, беззаветной и безответной, где холодный блеск глаз переплавляется в горячее участие… Неужели мы больше не встретимся, так и останемся касательными, уносящими тайное воспоминание на расходящихся все дальше путях? Неужели тот миг, когда мы соприкоснулись, не оставит в нас следа?
И наконец, Марта, которую я ценю меньше всего, редко когда о ней думаю — и именно поэтому теснее всего с нею связан.
Пройдя под железными жалюзи, подтянутыми наверх лишь с одного боку, так что они напоминали косое лезвие гильотины, приведенной в боевую готовность, и между водянисто-зелеными створками стеклянных дверей, я очутился в прохладном сумраке, границы которого образовывало множество полок, полочек и выдвижных ящиков — все цвета красного дерева. Запах лекарств в сочетании с сумраком и матово поблескивающими ящиками и ящичками был густой и тяжелый и не допускал сомнений в характере божества этого продезинфицированного капища. Больница! Эту мысль принесло с собой удивление, что там я запахов лекарств не ощущал. Опять я стал чувствителен к запаху карболки…
Никто не показывался, и я растерянно стоял перед массивным дугообразным прилавком с тремя окошечками в верхней застекленной части, охватывавшей его по всему периметру на уровне моей макушки.
Наконец из-за кулис, образованных мебелью красного дерева, вышла черноволосая девица; руки она держала в карманах белого рабочего халата.
— Слушаю вас, — произнесла она без выражения и нагнулась к окошечку, ожидая, что я подам ей рецепт. — Слушаю вас, что вы желаете? — Это уже настойчивей.
Я растерялся. Мне вдруг показалось неудобным без всякого предисловия просто так спросить магистра Лауцкую, не представиться и не убедить строгую девицу, что и в этом безличном мире у меня есть право на личные отношения.
Я подумал, что можно бы спросить хоть аспирин, но тут из-за коробок с ромашкой и шалфеем выглянула Марта.
— Это ко мне, Жарка, — громко сказала она и пошла вдоль прилавка.