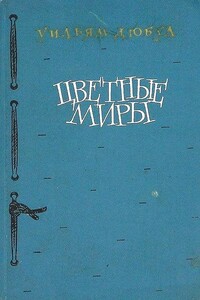Девочка росла толстушкой и напоминала херувимчиков, которых богомазы малюют на потолках католических храмов; с ее губ не сходила улыбка, а при виде своего дядюшки, Яноша Гёргея, малютка принималась радостно махать ручонками, будто ангелочек крылышками, и просилась к нему на руки. Но когда невестка посадила девочку на руки к родному отцу, Рози испугалась, расплакалась. Где же тут, отращивается, "голос крови"? Палом Гёргеем овладело странное беспокойство, он даже не мог дать ему названия. В голове зашумело, мысли закружились, (завертелись, будто стаи воронья в мглистом небе. Сурово хмурились его брови, когда он видел, как Янош берет плачущего ребенка из колыбели и ласкает его, играет с ним, пока личико девочки не озарится улыбкой. Как не стыдно седовласому Яношу баюкать младенца на глазах у судейских стрекулистов, которые наверняка посмеиваются за его спиной: "Смотрите, совсем с ума спятил вице-губернатор, — на старости лет в няньки записался".
"Да хоть бы свое, родное дитя нянчил!" — продолжал рассуждать за «стрекулистов» Пал Гёргей. Но на самом деле это были собственные его мысли, назойливые, как мухи.
Почему Янош так сильно любит ребенка? Естественно ли это? Чужого ребенка! И кто? Серьезный человек, вице-губернатор? (В те годы Янош еще был сепешским вице-губернатором.) И невестка тоже — прямо-таки боготворит девочку. А про свою собственную, умершую дочку никогда и слова не обронит! Умерла, нету — только и всего! Пал Гёргей раз-другой заводил о ней разговор, но не заметил и тени печали у родителей покойной Борбалы. Значит, они горюют по ней не больше, чем по какой-нибудь канарейке. Янош даже сказал, что, если младенец не коснулся ножками земли, значит, он еще и не жил, не спускалась его душенька с неба на землю, — как, например, их Борбала, умершая еще в пеленках. И совсем другое дело, когда дитя уже умеет сидеть. Это уже барышня. "Правда ведь, наша маленькая маковка? Ты ведь уже барышня! А ну, улыбнись же и папочке своему!"
Но Розика не хотела улыбаться отцу, а упрямо тянула ручонки к дяде Яношу. Да оно и понятно: Пал Гёргей именно в это время превращался в «дикаря» — лицо у него стало темное, мрачное, бороденка нечесана, на глаза нависли космы волос. Не то что ребенок, а и взрослый испугался бы при виде его. Сын Яноша, семинарист из Кешмарка — хорошенький десятилетний Дюри, в это время тоже приехал погостить домой. Дядя Пал тотчас же подумал: "Вот у кого я кое-что могу разузнать!" И начал исподтишка расспрашивать мальчика:
— Значит, у вас, школяров, и на троицу каникулы? И когда вы только учитесь? Вижу, ты такой же прилежный ученик, как Пишта Шваби. Тот отпрашивается из школы всякий раз, когда дома его матушка гуся режет.
— Ну уж нет, дядя Пали! Я такой ученик, что ни о чем никого не люблю просить. Даже на каникулы домой не прошусь.
— О, я вижу, ты настоящий Гёргей! Ну, а кем ты собираешься стать?
— Солдатом! — гордо отвечал юный Гёргей.
— Но ведь солдат должен уметь подчиняться, братец!
— Вот и хорошо. Подчиняться я умею. А просить — нет Домой я приезжаю только по разрешению.
— Ну и сколько же раз ты в этом году бывал дома?
— На рождество, на пасху. И вот сейчас, на троицу.
— А когда твоя сестричка умерла?
— Тогда не был.
— Почему же?
— Не знал.
— Как? Тебе даже не написали?
— Нет.
— Так от кого те ты узнал?
— Отец сказал, но только позднее, когда приезжал в Кешмарк проведать меня!
— Очень горевал отец? Грустное было у него лицо?
— Может быть.
— Как так? Разве ты не видел?
— Я ему в лицо не заглядывал.
— А тебе очень было жаль сестричку?
Дюри задумался. Мальчика воспитывали строго и приучали никогда не лгать.
— Не знал я ее, — решительно сказал он наконец.
— Но ведь ты же видел ее на рождество?
— Видел, да только…
— Ну вот, выходит, ты все же знаешь, какая она была из себя? Ну, постарайся вспомнить! — понуждал мальчика Пал Гёргей.
— А никакая.
— Ну, что ты говоришь! — прикрикнул на него дядя.
— Да ведь, дядя Пал, маленькие ребятишки — это вам не котята. Котят, тех по масти можно отличать друг от друга: один пестрый, другой черный, третий дымчатый. И девчонок я тоже только по цвету юбочек различаю.