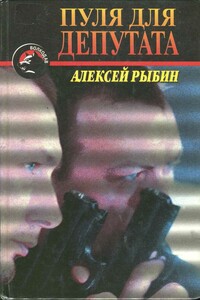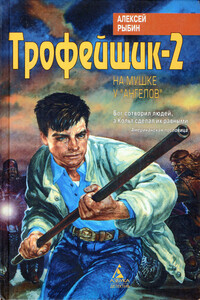Григорович был спокоен. Раньше – нервничал, а теперь уже привык. Лукашина – она и есть Лукашина. Энергии в ней, как в ядерном реакторе, а песни-то – советская эстрада. Отомрет скоро. Григорович не ревновал. Он знал, что «Нарциссы» в десять раз круче всех Лукашиных вместе взятых. Не беда, что он в первом отделении.
– Сейчас, что ли, парень твой будет? – спросил Григорович у Бирмана, который стоял за кулисами рядом с лидером «Нарциссов» и вытирал пот со лба большим носовым платком. Что ни говори, а в Новороссийске летом жарковато.
– Да, – коротко ответил Бирман.
– Откуда ты его взял-то, Толя? – спросил Григорович. Бирман только рукой махнул.
– Может он что-то? – не унимался Григорович.
– Да пес его знает, – с досадой в голосе ответил директор преуспевающего предприятия.
– Ну-ну, – усмехнулся лидер «Нарциссов». – Ты его хоть прослушивал?
– Ну, так... – неопределенно ответил Бирман. И вдруг озлился: – Отстань ты, Христа ради.
«Ладно, – подумал Григорович. – У него и так проблем по горло. Хорошо, что я не администратор. Вот уж, собачья работа».
Вежливый хохоток, прокатившийся по зрительному залу, поставил точку в выступлении одесских юмористов. Григорович знал всю их программу наизусть. Этот последний хохоток обычно сопровождал анекдот номер сто сорок девять – так сами юмористы говорили о «сетке» своих реприз.
Обычно сразу после этого хохотка на сцену выходил Григорович с гитарой, брал несколько аккордов, глушил струны левой рукой – тут зал начинал неистово реветь. Григорович выдерживал паузу, застыв на сцене памятником самому себе, после этого из-за кулис медленно и важно выходили Зайцев, Арнольд и Кушнер, занимали боевые позиции, и «Нарциссы» обрушивались на провинциальную публику всей мощью видавших виды усилителей и яростью перманентного похмельного синдрома.
Привычный ход концерта в этот раз был нарушен, и Григорович чувствовал легкую досаду. Выходить на сцену после юмористов было хорошо, приятно и выигрышно – зал был уже достаточно разогрет, расслаблен разухабистым, на грани фола, юмором одесситов и вполне готов к жесткой, фронтальной музыке «Нарциссов». А теперь отчего-то Бирман вставил между юмористами и Григоровичем никому не известного парня с гитарой.
Юмористы и конферансье столкнулись за кулисами. Конферансье, Пал Палыч Луговой, шестидесятилетний, с большим сценическим опытом господин, честно отрабатывал свой гонорар. При всей своей лютой ненависти к вокально-инструментальным ансамблям он всегда представлял их с улыбкой, которая казалась искренней даже самым резонерски настроенным зрителям, делал приветливые жесты, шутил, острил и поблескивал глазами. Иной раз даже румянец выступал на бледном, испитом лице Пал Палыча – так он старался.
Григорович почувствовал недоброе. Такие высокие профессионалы, как одесситы и Пал Палыч, просто не могли столкнуться за кулисами, тем самым нарушив ритмичный ход концерта – пусть на несколько секунд, но все-таки... Дело явно пошло наперекосяк.
– Козлы, – отчетливо произнес Пал Палыч после того, как Марк, юморист ростом повыше, наступил на его идеально отполированный ботинок.
– А пошел ты, – устало процедил Марк, дрожащей рукой расстегивая ворот демократичной клетчатой рубашки.
– Сам пошел, – злобно бросил Пал Палыч и, мгновенно преобразившись, засияв своей привычной улыбкой, вышел на сцену.
– У нас в гостях... Подарить вам свои песни... Солнечный Новороссийск... Василий Леков... поприветствуем...
Григорович слушал вполуха. Василий Леков – тот самый парнишка, который в поезде точил слезу над солянкой, стоял рядом с ним. В руках у парнишки была гитара – обшарпанная, советского производства, на таких Григорович не играл уже года три – западло преуспевающему музыканту играть на дешевом инструменте производства фабрики Луначарского.
Парень был бледен впрозелень.
«Как бы в обморок не хлопнулся на сцене, – подумал Григорович. – Ишь, нервный какой».
– Пошел, – прошипел Бирман, и парень, ссутулясь, едва ли не волоча за собой гитару, поплелся на авансцену к микрофонной стойке.
«Завалит сейчас концерт, – подумал Григорович. – Сразу видно – никакого профессионализма».