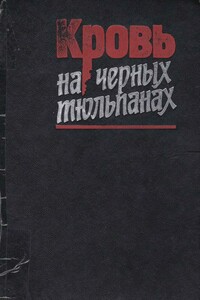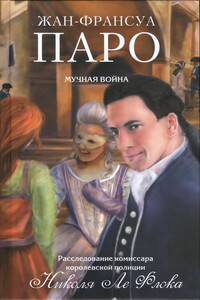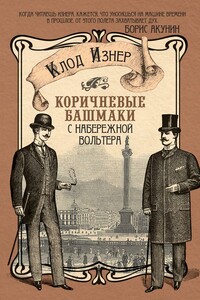Лопухин холодно кивнул, и Азефу показалось, что на лице его мелькнуло выражение брезгливости. Но никаких эмоций это не вызывало, Азеф давно уже пришел к мысли, что торжествует тот, кто торжествует последним, а в своем торжестве он не сомневался: нет, теперь уже не он марионетка, пляшущая по мановению пальцев этих самоуверенных благородных господ, марионетки сами эти господа. Это они в его власти, во власти человека, вырвавшегося из-за черты оседлости, из нищеты и обскурантизма гетто.
«Молчи, скрывайся и таи и мысли, и мечты свои», — насмешливо подумал он, вдруг вспомнив интеллигентскую привычку Зубатова цитировать подходящие случаю поэтические строки.
— Прошу садиться, господин Раскин, — тихим аристократическим голосом произнес Лопухин и с какой-то особой, вырабатывавшейся веками элегантностью, качнул аристократически узкой кистью в сторону одного из стоящих перед его столом кресел. Азеф не заставил себя ждать.
Грузно, тяжело ступая на всю ступню, почти демонстративно топая, он уверенно прошел к креслу и плюхнулся в него, заметив, что заставил Лопухина еще раз брезгливо поморщиться. Обернувшись к устраивающемуся в соседнем кресле Зубатову, он с мстительной радостью отметил на лице начальника Петербургской охранки непривычное выражение — смесь растерянности и удивления.
— Так не будем же терять понапрасну время, господа, — заговорил он так, словно он, а не Лопухин был хозяином кабинета.
— Конечно же, Евгений Филиппович, — стараясь сгладить возникшую неловкость, поспешил подать голос Зубатов. — Как говорится, пора, пора, трубят рога! Вот мы и возьмем сейчас... быка за рога.
Он улыбался, словно ничего особенного не произошло, будто его секретный сотрудник не позволил себе сейчас ничего непристойного в присутствии самого директора Департамента полиции.
— Да, да, вы совершенно правы, не будем терять времени. Если позволите, ваше превосходительство...
Зубатов почтительно поклонился Лопухину, и тот в ответ повернул в его сторону непроницаемое лицо:
— Слушаю вас, Сергей Васильевич...
Это было сказано таким холодным тоном, что сердце Азефа дрогнуло: рано, рано начал он показывать клыки, нельзя спешить, нельзя торопиться, он должен играть только наверняка...
— У нас тут, Евгений Филиппович, да будет вам это известно, — заговорил Зубатов, обращаясь к Азефу, — в нашем, так сказать, полицейском мире, жизнь тоже не стоит на месте... Особенно после вступления в должность Алексея Александровича и его высокопревосходительства Вячеслава Константиновича фон Плеве. Не скрою, работать нам сейчас стало интереснее, а следовательно, и легче. Мы постепенно избавляемся от консерватизма, от старых догм, на ходу перестраиваемся, не так ли, Алексей Александрович?
Лопухин, опять не удержавшись от гримаски брезгливости, сухо кивнул.
«Э-э, — подумалось о нем Азефу, — да этот барин, этот аристократ — просто чистоплюй! А дело, на которое его поставили по протекции Плеве, ему омерзительно и глубоко противно...»
На душе у него полегчало: нет, Лопухин и не думал унижать его, Азефа, своими брезгливыми гримасами и полуулыбками — это был просто его обычный стиль, его манера держаться — уверение самого себя, что, копаясь в грязи, он в ней не пачкается, не пятнает свое древнее происхождение.
«Самовлюбленный дурак, павлин, — припечатал Лопухина про себя Азеф беспощадной характеристикой. — Ну, ничего, когда-нибудь мы с тобой еще посчитаемся».
— Не буду повторять некоторые догмы нашего охранного дела, — продолжал Зубатов, — напоминать о некоторых моральных анахронизмах, доставшихся нам со времен незабвенной памяти графа Дубельта. Новые времена требуют новых песен. И вот... — Он торжествующе посмотрел на Азефа: — Его высокопревосходительство Вячеслав Константинович одобрил наши с Алексеем Александровичем предложения — делать отныне ставку на усиленное развитие секретной агентуры, развязать наконец руки нашим самым надежным и проверенным сотрудникам...
Последние слова Зубатов подчеркнуто адресовывал не кому-нибудь вообще, а лично ему, Евно Фишелевичу Азефу. Азеф взглянул на Лопухина, взгляды их встретились, и в глазах Лопухина он увидел теперь не брезгливость, а... любопытство.