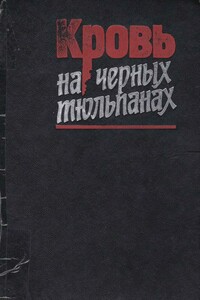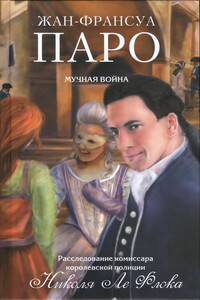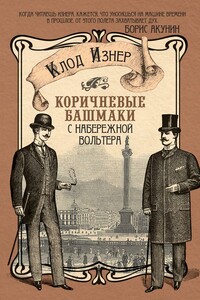А потом было бегство. (Берлинская «Форвертс» радостно информировала своих читателей: «Гапон благополучно прибыл за границу»). Были слава и внимание газет, деньги за написанную с помощью наемных щелкоперов «Историю моей жизни» и красивая жизнь: дорогие отели и лучшие рестораны, сомнительные кабаки и публичные дома.
«...для революции было бы лучше числить Гапона в списке своих погибших героев, чем продолжать иметь с ним дело как с вождем», — писал потом о нем один из уважаемых и старых революционеров.
Но Гапон не хотел пребывать в мучениках. Вкусив славы и денег, он сломался психически, а хлебнув красивой парижской жизни, уже не мог жить так, как жил раньше, тем более, что долго еще деньги текли к нему рекой — и от русских почитателей, и от иноземных доброхотов. Маленький, серенький попик, уверовав в свою роль мессии, заболел манией величия. Он требовал, чтобы его признали своим вождем сначала социал-демократы, затем социалисты-революционеры, но ничего из этого не получалось. А когда после октябрьского манифеста он вернулся все-таки в Россию, ничего, кроме бурных кутежей в Париже, угарных игорных ночей в Монте-Карло, жадных кокоток и падких на даровщинку прихлебателей, в его «политическом активе» не было. Революция им больше не интересовалась, и слово «провокатор» следовало за ним как тень. Он был не нужен никому, кроме... Департамента полиции, где было принято встречать «раскаявшихся революционеров» с объятиями нараспашку.
Так, в конце концов, и начались его встречи с Рачковским, денег на эти встречи не жалевшим, тем более, что они были казенными. Вот и теперь оба они «снимали напряжение» в одном из лучших петербургских загородных ресторанов.
Оба были пьяны в меру, именно в той степени, чтобы продолжить не сегодня начатый разговор.
— А уж и едите вы как хорошо, кто бы знал! — откровенно восхищался поп-расстрига, с ласковым вожделением окидывая взглядом изрядно опустошенный, но все еще обильный стол. — Да не всякий поймет такое роскошество, а я, честно признаюсь, после Парижа по-другому уже не могу...
— Да что деликатесы все эти, что вина тонкие! Набил брюхо сегодня, а завтра опять захочется, — меланхолично возражал Рачковский. — Скучно все это, без жизненного смысла. Без остроты-то есть...
— Ну уж у кого-кого, а у вас-то в жизни остроты, слава Богу, предостаточно, — пьяно не согласился Гапон и замотал головою, словно вытрясая из нее хмель:
— Угобзился же я сегодня, окаянный. Опять во грех впал, прости, Господи, раба своего недостойного.
Он привычно осенил себя крестом и поднял взгляд к потолку, на котором лепились с венками в руках голозадые срамницы.
— Да бросьте вы, батюшка! Не такой уж это и грех, во всяком случае, не из самых страшных! — успокоил его Рачковский, наполняя по-новому лафитнички себе и Гапону водкой. — К тому же: не согрешишь — не покаешься...
Он поднял лафитник и потянулся к Гапону — чокаться.
— ...не покаешься — не спасешься! — завершили фразу они хором, чокнулись и, хохотнув, выплеснули водку в свои рты.
Закусывали устрицами — без заграничных деликатесов Гапон с некоторых пор за стол не садился.
Закусив, Рачковский погрустнел:
— Уходит жизнь, батюшка... Уходит, — вдруг принялся жаловаться он пьяному сотрапезнику. — Бот и я старею, совсем не тот стал, никуда не гожусь. А заменить меня некем...
Гапон в ответ пьяно икнул и потянулся было опять наполнить лафитники. Но Рачковский решительно перехватил его руку:
— Вот давайте и прямо поговорим, Георгий Аполлоныч. России сегодня нужны люди именно такие, как вы!
Он перегнулся через стол и горячо зашептал прямо в лицо Гапона:
— Возьмите мое место. Мы будем счастливы, если вы возьмете его.
— Что-с? — отпрянул от него сразу протрезвевший расстрига. — Шутить изволите со мною, Петр Иваныч?
— Почему же шутить? — изобразил обиду Рачковский. — Я человек уходящий, старый, усталый, а вы — вот вы какой у нас молодец, светлая голова, чистое сердце.
Гапон шумно выдохнул и мутно посмотрел на севшего на свое место Рачковского:
— И все же шутить изволите, милостивый государь Петр Иваныч. Знаете же, знаете, что мне другая планида дана, другой путь Господь предначертал — в революцию направил. Да завистники окаянные на пути стоят, шагу сделать не дают нонче, имя честное порочат...