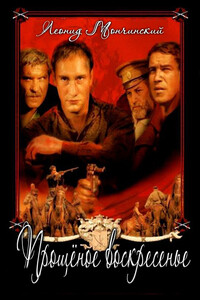— Не стану прятаться, гражданин начальник. Он рта не открыл, а его — в карцер. Почему один должен…
— Двое. Лейтенант! И этого в карцер!
Начальник лагеря «Новый» забыл о Ведрове обращался только к лейтенанту:
— Еще раз прошу — позаботьтесь о тишине.
В баню шли партиями. На всю помывку отводилось полчаса, ложка зеленого мыла в ладонь и шайка теплой воды. После бани однорукий зэк выбрасывал из прожарки прямо на двор пахнущее хлоркой белье, приговаривая:
— Хватай шмутье, сидельцы! Кто смел, тот и успел.
Увидев Каштанку с наколотым на груди крестом и профилем Ленина, он постарался спрятать чувства поглубже, равнодушно процедил сквозь зубы:
— Был слух: тебя трюманули на Крученом?
— Обошлось, — лаконично ответил Опенкин, тут же спросил: — Что там за «моряки» в озере?
— Местные. Все местные. И вам не обойдется. Три месяца, а потом — или на проволоку, или в купальню. Здесь человеку при любом здоровье не сдюжить. За зиму ползоны передохло.
— Спасибо — успокоил.
— Чем богат. Дальше сам додумывай. Ко мне больше не подкапывай — спалишь.
— Сарай за вахтой, ну, вон тот… Что в нем?
— Не зарься. Керосин, бутор хозяйский. Сто раз проверен.
— С тобой ясно, Культяпый. Даешь отмычку — и я тебя не знаю.
Культяпый бросил очередной тюк с бельем, слегка задумавшись, пошамкал широким ртом. Исчез он незаметно, в тот момент, когда Федор осматривался по сторона: а вернувшись, сунул ему в руку аккуратный сверток.
— Выиграл у одного беса.
Каштанка развернул серую тряпку, удивленно посмотрел на Культяпого:
— Это инструмент Нежного.
— Какая разница? Не сдюжил, а ведь подковы гнул…
Культяпый с силой швырнул ком белья в амбразуру, проверив обстановку скорыми глазами, закончил мысль:
— Жизнь здесь дешевле подлости. Иди, Федя, царство тебе небесное…
Трое сидели у остывшей печи, сделанной из куска большой трубы, и пытались понять друг друга перед тем, как на что-то решиться.
— Такой ночи больше не будет, — говорил взволнованный беседой с Культяпым Федор Опенкин. — Это не ночь, а подарок! Все устали. Все хотят отдыхать. Усталый человек не может быть бдительным. Вы уж мне поверьте: я всегда работал ночами.
— Бежать? Куда?! — спрашивал его Ираклий. — Карты нет. Продуктов нет! Друг друга кушать станем?!
— Зачем — друг друга?! «Сухаря» прихватим пожирней. «Корову»!
Ираклий выразительно скрипнул зубами:
— Помолчи, слушай, а! Людей кушать не могу! Еще раз скажешь — знать тебя не хочу!
— Разборчивый! Видал, каким скоро будешь?! Голый, синий, главное — мертвый!
— Какой буду, такой буду! Людей кушать не хочу!
Упоров слушал молча. Он предполагал, что этот полуразвалившийся барак может их всех пережить. Попробовать все объяснить заключенным? Разобрать барак и с кольями пойти на пулеметы? Кто-то обязательно вложит… Да и пулеметы не пройти. Барак не обязательно ломать, не обязательно. Зачем? Он сухой, как солома. Его высушил ветер. Сухой…
— Стоп! — выдохнул он вслух, и двое, перестав спорить, уставились на него, ощутив живое присутствие интереса. Они подвинулись друг к другу. Тень стала общей.
— Так что хранится в том сарае?
— Керосин. Разный бутор, нам не сподручный. Бежать надо, Вадим! Бежать! Не хрена пудрить мозги! — Летучий взгляд его метался по сторонам, ни на чем не задерживаясь.
Упоров перебил:
— Мы не бежим. Все равно поймают, поставят у доски почета, как тех троих. Надо спалить этот гроб. Поджечь бараки! Ветер снесет огонь на караульное помещение…
— Ты… — Опенкин не мог найти подходящие слова, — ты прямо это, в рот конягу шмендеферить, гений какой-то!
— В бараках люди, их надо предупредить, — предложил Ираклий, глянув на зэков, понял, что сказал глупость.
— Федор, ты идешь?! — окликнул Вадим.
— Спрашиваешь?! Ну, и фраер нынче пошел отчаянный. Другой вор позавидует.
Они по одному исчезли от печи. Крались вдоль нар, стараясь не попадать в узкие полоски лунного света из оконных щелей. Бесшумно вошли в подсобное помещение. Ираклий держал решетку. Упоров выламывал скобой ржавые гвозди. Первым прилип к подоконнику и соскользнул во двор Опенкин. Через минуту его голова возникла из темноты:
— Мотай портянки на сапоги: скрипучие шибко. Сидор оставь!