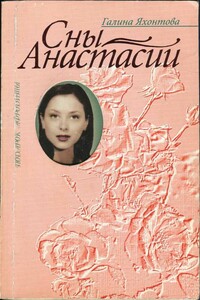— Удальцов слишком знаменит, чтобы о нем не „поговаривали“, не правда ли, Люба?
— Так, значит, они ошибаются. Тогда… От Коробова?
— От духа святого. — Настя ответила слишком резко, и Ладова поняла, что попала в точку.
— Ах, хорошо, что он не женат. У тебя есть хоть какой-то шанс… А я столько пережила… Столько…
Настасья не на шутку испугалась, что пережитое Ладова уже успела воплотить в бессмертных строках, которые сейчас посыплются на ее голову. Но нет, Любаша продолжала свой рассказ в разговорном жанре.
— Я ведь тоже… Была немножко беременна. — Она затянулась, но неглубоко, для имиджа. — И вот, приезжаю я в Переделкино под Новый год. А там Петя с этой, ну, с зубодеркой. И с дочкой. Представляешь? — Она сделала круглые глаза.
— Представляю.
— Я дня два ужасно комплексовала, пряталась, старалась не попадаться им на глаза. Даже гулять не выходила. А потом осмелела и все рассказала.
— Что рассказала? Кому?
— Петиной благоверной. Про меня, ребенка и нашего мужа.
— И что же она? — Банальная жизненная история начинала забавлять Настю.
— Она побежала плакаться к Белле Ахмадулиной. Оказывается, они хорошо знакомы. И кому только из сильных мира сего эта стерва не чинила зубы! А Орлов, представляешь, какой подлец, вместо того, чтобы воспользоваться свободой, которую ему эта „зубастая“ предоставила со злости, пришел ко мне и… Нет, не могу дальше говорить. — Большая непрошеная слеза стремительно скатилась по щеке исстрадавшейся поэтессы.
— Что, он тебе сказал какую-нибудь гадость?
— Нет, Настя, нет! Хуже! Он меня ударил. — Она поднесла руку к уху: — Вот сюда. Он разбил мне всю мочку: я едва смогла вынуть сережку из раны. А потом эта больница, аборт. Ах, я столько натерпелась, я столько пережила.
— Все проходит, Люба, — философски заметила Настасья и вздохнула.
— Не все. Я… Я по-прежнему люблю его, — сообщила поэтесса, переходя на колоратурное сопрано. — „Мне б ненавидеть тебя надо. А я, безумная, люблю“.
„Все мужики — подлецы, а все бабы — дуры“. — Настя мысленно произнесла любимую Любину поговорку.
Она с трудом поднялась на свой пятый этаж и нашла в дверях записку: „Настя, заберите пакет в кв. 31“.
В „кв. 31“ жила интеллигентнейшая старушка: гимназистка, институтка, эмигрантка, зечка, а ныне — пенсионерка. В общем, из „бывших“. Хотя теперь все из бывших. Но она из тех „бывших“, которые были прежде всех остальных. На звонок она открыла сразу, не соблюдая никаких правил безопасности.
— Наталья Николаевна, а вдруг бы это была не я, а вор или грабитель?
— А чего мне бояться, девочка, в мои-то девяносто пять?! — резонно ответила Наталья Николаевна, как всегда, аккуратненькая, в темно-синем платье с широким кружевным воротничком.
Она жила с какой-то внучатой племянницей, старой девой, очень похожей на нее саму. Настя иногда даже путала их, хотя племянница была лет на двадцать моложе. У двери стоял большой пакет, и Наталья Николаевна указала на него сухонькой рукой:
— Возьмите, Настенька. Это вам оставил один молодой человек. Он не застал вас дома, а в нашей квартире всегда кто-то есть. Я ведь уже почти не выхожу.
— Что за молодой человек? — с опаской спросила она, припоминая душераздирающие криминальные истории.
Например, историю о чьем-то бывшем супруге, который прислал оставившей его жене взрывчатое устройство в коробке от торта „Птичье молоко“. И виновница разбитой жизни пиротехника, и две ее подруги взлетели на небеса, так и не успев вкусить от чуда „кондитерского“ искусства. „Не дай Бог, Валентин снова что-нибудь изобрел“, — пронеслось у нее в мыслях.
— О! Тут есть визитная карточка. Он на ней записку оставил… На обратной стороне. Милый такой человек. Молодой. — Старушка стала искать карточку. — Ах вот.
„Поцелуев Николай Петрович, — прочла Настя, — владелец магазина „Купидон“. И на обратной стороне: „Настя! Женя оставил мне „мэсидж“ — заботиться о вас. Не обессудьте, если что не по вкусу. Позвоню“.
— Приятный такой юноша, — продолжала Наталья Николаевна, — похож слегка на штабс-капитана Воронцова… Впрочем, вы его, наверное, не знали.
Выцветшими глазами старушка смотрела вдаль. В бесконечность.