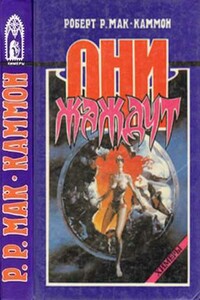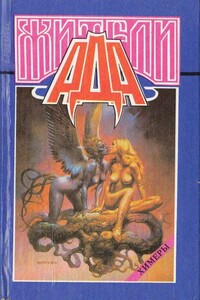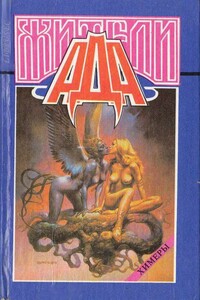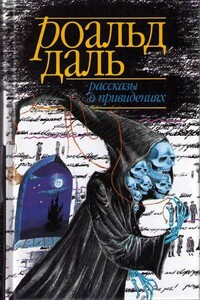Под окнами прогуливался профессор Грегг — он явно наслаждался ощущением свободы и мыслью о том, что распрощался на время с рутинным служением академической науке. Я вышла к нему, и он взбудораженно заговорил об изгибе долины, о речке, петлявшей меж дивных холмов.
— Да, — заключил профессор, — это на редкость красивый край, и он полон тайн — так мне, по крайней мере, кажется. Вы не забыли, мисс Лелли, тот ящик, который я вам показывал? Надеюсь, вы не думаете, что я приехал сюда только для того, чтобы подышать чистым воздухом и заодно позабавить детей своим нелепым видом?
— У меня, конечно, были кое-какие предположения, — ответила я, — но вы ведь знаете, что я совершенно не в курсе предмета ваших исследований, а связь их с этой чудесной долиной попросту выше моего разумения.
Лицо профессора озарилось лукавой улыбкой.
— Ну-ну, не думайте только, что я держу вас в неведении из любви к розыгрышам, — сказал он. — Я молчу, потому что говорить, собственно, не о чем. У меня нет ничего такого, о чем можно было бы написать черным по белому и что имело бы заведомо неопровержимый, как в школьном учебнике, вид. Молчу я и по другой причине. Много лет тому назад случайно обнаруженная в газете заметка привлекла мое внимание, и тотчас смутные догадки и бессвязные фантазии сложились в определенную гипотезу. Я сразу понял, что иду по тонкому льду: теория моя была невообразимо дикой, и мне бы в голову не пришло обмолвиться о ней в печати хоть единым словом. Но я полагал, что в обществе себе подобных, в обществе ученых, которым ведома неисповедимость познания, и известно, к примеру, что газ, ныне огнем полыхающий в любой пивной, некогда тоже казался дикой гипотезой, я могу рискнуть рассказать о своей мечте — будь то Атлантида, философский камень, да что угодно! — и не быть осмеянным. Я жестоко заблуждался: друзья тупо уставились на меня, потом переглянулись, и в их взглядах я прочел не то жалость, не то высокомерное презрение, не то смесь из обоих этих чувств. Один из них зашел ко мне на следующий день и издалека завел речь о том, что я-де переутомился и перенапряг свой и без того слабенький мозг. «Короче говоря, — сказал я ему, — вы считаете, что я сошел с ума. Было бы странно, если бы и я считал так же,» — и в сердцах выпроводил его. С тех пор я поклялся ни слова не говорить ни одной живой душе о своей теории и никому, кроме вас, никогда не показывал содержимого того ящика. Конечно, я могу ловить руками воздух, могу быть сбит в толку нелепым совпадением, но, стоя здесь, в этой таинственной тишине, посреди лесов и диких холмов, я не сомневаюсь: я на верном пути.
Все это взволновало и удивило меня. Я ведь знала, как дотошен профессор Грегг в повседневной работе: выверяет каждый дюйм и не осмеливается делать никаких утверждений, не убедившись, что они непоколебимы. Его дикий взгляд и горячность тона сказали мне больше слов: некое непостижимое видение владеет помыслами профессора. Наделенная скептицизмом не меньше, чем воображением, я начала противиться этим намекам на чудо и вообще задаваться вопросом: уж не охватила ли профессора мономания и не отрекся ли он по этому случаю от научных навыков предшествующей жизни? Не свихнулся ли он на самом деле и не стоит ли мне, пока не поздно, дать, что называется, решительного деру?
Но эти беспокойные мысли не помешали мне насладиться очарованием окружавшей нас природы. За нашим потрепанным долгим запустением домом начинался бескрайний лес: длинной темной полосой, миля за милей тянулся он над рекой с севера на юг, отступая на севере перед еще более мощной громадой голых диких холмов и неприступных ничейных земель — местами сплошь нехоженных и диковинных, куда более неизвестных англичанам, нежели какая-нибудь сердцевина Африки. Дом отделяла от леса лишь пара распластанных по круче полей, и детям нравилось подниматься за мной длинными перелесками меж сплошных стен, сплетенных из блестящих буковых полей, к самой высокой точке леса, откуда глянешь в одну сторону, поверх реки, — упрешься взглядом в западную горную гряду, глянешь в другую, поверх волнистых шапок тысяч деревьев, ровных лугов и сияющего желтого моря — едва различишь вдали зыбкую кромку горизонта.