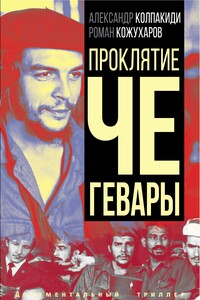I. Сектор докапиталистических укладов
Некоторые последствия колониального правления и проникновения в Африку капиталистического способа производства вполне ясны: в условиях колониализма те или иные докапиталистические способы производства оказались быстро вытесненными. Исчезли условия их воспроизводства. Особенно это относится к системе оброка, феодальному и рабовладельческому укладам. Исключительное право колониального режима на осуществление политической власти быстро подорвало систему стратификации власти, необходимую для воспроизводства этих укладов. Только своеобразные черты этих укладов смогли сохраниться, и надо сказать, что они не формировали некоего конкурирующего способа производства, а просто служили фактором, «искажающим» облик доминирующего капиталистического уклада. К докапиталистическим укладам, которые сохранились, хотя и в измененной форме, относятся патриархально-общинное хозяйство и простое товарное производство. Судя по всему, в докапиталистическом секторе экономики господствующим укладом является некое новое образование, представляющее собой сочетание первобытнообщинного способа производства и простого товарного производства; этот уклад характеризуется чертами, отражающими влияние капитализма. Для удобства изложения мы будем считать всех, кто живет в условиях этого своеобразного уклада, крестьянами. Для него характерны следующие основные черты:
1) базовой единицей в организации производства является семья или род;
2) основным средством производства служит земля;
3) обычно земля принадлежит общине, но находится в частном пользовании с определенными обязательствами по отношению к общине;
4) товарообмен осуществляется между приблизительно одинаковыми мелкими производителями, которые производят главным образом потребительные стоимости;
5) производство меновых стоимостей ограниченно и сочетается с привлечением некоторыми мелкими производителями наемного труда.
Теперь мы подошли к главному вопросу: каковы взаимоотношения между капиталистами из капиталистического сектора и этими крестьянами?
Может показаться, что отношения между капиталистом и крестьянином коренным образом отличаются от отношений между капиталистом и рабочим в капиталистических анклавах. Действительно, на первый взгляд между ними вообще едва ли возможны какие-либо отношения, в гораздо меньшей степени выражены отношения эксплуатации, господства и подчинения, антагонизма и борьбы, которые существуют между капиталистом и наемным работником. По видимости, крестьянин не отделен от своих средств производства и поэтому не принужден подвергаться эксплуатации. Однако это больше видимость, чем действительное положение вещей. Взаимоотношения между капиталистом и крестьянином очень схожи с теми, что характерны для капиталиста и рабочего, в том смысле, что это, по сути, отношения эксплуатации и антагонизма, господства и подчинения. Как же подобные отношения возможны, если крестьянин – независимый производитель? Ответ на этот вопрос состоит в том, что в докапиталистическом секторе колониальное государство от имени капиталистов осуществляет эксплуатацию, манипулируя условиями производства и обмена.
II. Манипулирование крестьянским производством
Капитал использует силу государства для регулирования условий крестьянского производства следующим образом: а) издавая законы, определяющие, кому что производить (как это можно было наблюдать в колониальной Уганде); б) осуществляя программы развития сельского хозяйства, в соответствии с которыми крестьяне вынуждены использовать удобрения, различную технику и оборудование. Принудительное использование этих средств имело якобы своей целью помощь крестьянам, но в действительности способствовало их втягиванию в систему эксплуататорских товарных отношений; в) издавая законы о стандартизации продукции и производственных процессов. Легко заметить, что перечисленные меры облегчают эксплуатацию крестьянина капиталистом, даже если капиталист непосредственно не контролирует производство, а крестьянин формально остается независимым, поскольку не отделен от средств производства. Во-первых, указанные меры изменяют распределение труда в пользу производства тех товаров, которые выгодны капиталистической клиентуре колониальной страны и могут быть невыгодны для крестьян. Во-вторых, из приведенного выше пункта а) следует, что в результате принимаемых мер увеличивается предложение товаров, выгодных в большей степени для капиталиста. Рост предложения этих товаров может нести в себе угрозу голодной смерти для простых товаропроизводителей (например, в случае перехода от выращивания продовольственных культур к выращиванию непродовольственных) и подрывает безопасность его положения (например, когда вследствие принуждения к использованию новой техники такой производитель попадает в долговую зависимость). В-третьих, подобные меры часто влекут за собой повышение степени эксплуатации, заставляя крестьянина-производителя расширять границы своего рабочего дня и использовать более дорогие средства труда, которые способствуют увеличению прибыли капиталиста и зачастую приносят крестьянину намного меньшую отдачу. В-четвертых, они практически обесценивают рабочее время крестьянина, направляя его труд в такие области, где снижается его конкурентоспособность по сравнению с конкурентоспособностью капиталиста. Рассмотрим несколько примеров того, как государственные меры по регулированию (проводимые в жизнь посредством таких учреждений, как торговые комитеты) ставят под контроль деятельность крестьянина и даже выбор им применяемой техники, повышая зависимость крестьянина. В Южном Камеруне какао-бобы сушили обычно в дыме костров. При такой технологии часть какао-бобов может закоптиться, поэтому какао-бобы, высушенные подобным способом, продавались со скидкой 5–12 ф. ст. за тонну. Колониальное правительство запретило использовать такой способ сушки и одновременно ввело в практику специальные сушильные печи. Вскоре всех крестьян обязали перейти на новую технику. В Нигерии колониальное правительство с помощью системы ценообразования стимулировало производство пальмового масла высокого качества, содержание свободных жирных кислот в котором не превышало 4,5 %. Такое чистое масло требовалось для производства маргарина, и менее качественное масло считалось, с точки зрения капиталистов, невыгодным. Стимулирование производства высококачественного масла с помощью цен подкреплялось внедрением ручных прессов. Сравнительно высокие цены побуждали крестьян-производителей вырабатывать масло высокого качества. Однако для этого им нужны были ручные прессы. Капиталисты преуспевали, поскольку доля масла высокого качества возросла с 0,02 % в 1950 г. до 77 % в 1958 г. Во многом то же самое произошло и с арахисом. В 1955 г. была введена надбавка к цене за арахис «специального» качества – с удельным весом скорлупы не более 30 %. Целью введения надбавки было снизить содержание свободных жирных кислот в продукции, отправляемой в Европу. Фермеры оказались вынужденными приобретать особые машины для очистки орехов от скорлупы, которые повреждали зерна меньше, чем при старом методе, предполагающем использование пестика и ступки. Крестьяне-производители должны были покупать новые машины и осваивать новые операции, особенно когда Северный региональный торговый комитет настоял на покупке только арахиса «специального» качества. Капиталисты добились своего: поставка арахиса «специального» качества возросла в 1955/56 г. в Северном регионе с 22 % общего объема до 97,7 % в 1957/58 г.