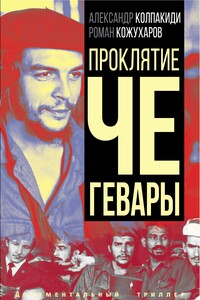Ни одна из этих цифр не является точной, но они указывают на общий для исследователей проблем населения вывод: на огромном африканском континенте наблюдалась из ряда вон выходящая стагнация, и ничто кроме работорговли не могло ее вызвать. Поэтому она и требует особого внимания. Акцент на убыли населения играет большую роль при рассмотрении вопросов социально-экономического развития. Рост населения играл главную роль в развитии Европы, обеспечивая увеличение рабочей силы, расширение рынков и усиление активности спроса, способствовавшие дальнейшему движению вперед. Рост населения Японии имел схожие позитивные эффекты. В других частях Азии, оставшихся на докапиталистическом уровне, большое количество населения привело к гораздо более интенсивному использованию земельных ресурсов, что вряд ли когда-либо было возможным в Африке, остающейся малонаселенной. Пока плотность населения была низкой, люди как рабочие единицы были гораздо важнее прочих факторов производства, таких как земля. В разных частях континента легко найти примеры осознания африканцами того, что в их условиях население – самый важный фактор производства. У бемба[55], например, количество людей всегда считалось важнее земли. Среди шамбáла[56] в Танзании та же идея выражалась фразой «король – это люди». У балант[57] в Гвинее-Бисау сила семьи оценивается количеством рук, готовых к обработке земли.
Конечно, многие африканские правители принимали европейскую работорговлю, как они полагали, ради собственных интересов, но с любой разумной точки зрения отток населения не может быть оценен иначе как катастрофа для африканских обществ. Отток как напрямую, так и косвенно влиял на африканскую экономическую деятельность. К примеру, если население какого-либо региона, где обитала муха-цеце, уменьшалось до определенного числа, оставшиеся люди были вынуждены покинуть свое местообитание. По сути порабощение приводило к проигрышу битвы за покорение природы, – а оно служит залогом развития. Насилие также обусловливает уязвимость. Возможности, предоставляемые европейскими работорговцами, стали главным (но не единственным) стимулом для частого проявления насилия между различными африканскими сообществами и внутри них. Оно чаще принимало форму набегов и похищений, нежели регулярных военных действий, и этот факт усиливал страх и неопределенность. Все европейские политические центры в XIX веке как прямо, так и косвенно проявляли озабоченность тем фактом, что деятельность, связанная с захватом пленников, препятствует другим экономическим занятиям.
Было время, когда Британия остро нуждалась не в рабах, а в местных работниках для сбора пальмовых продуктов и каучука, а также для выращивания сельскохозяйственных культур на экспорт. Понятно, что в Западной, Восточной и Центральной Африке эти намерения вступали в серьезный конфликт с практикой захвата невольников. Европейцы признали эту проблему гораздо раньше XIX века, – сразу, как только она коснулась их собственных интересов.
Например, в XVII веке португальцы и голландцы сами препятствовали работорговле на «Золотом Берегу»[58], ибо осознали, что она может помешать торговле золотом. Однако, к концу века золото было найдено в Бразилии, и важность поставок золота из Африки уменьшилась. В рамках атлантической модели африканские рабы стали важнее золота, и бразильское золото предлагалось за африканских пленников в Виде (Дагомея) и Аккре. С этого момента рабство начало подкашивать экономику «Золотого Берега» и разрушать торговлю золотом. Налеты с целью захвата рабов сделали разработку месторождений и перевозку золота небезопасной, да и походы за пленниками стабильно стали приносить больше дохода, чем золотодобыча. Европеец-очевидец заметил, что «поскольку единственный удачный грабеж делает местного жителя богатым всего за один день, они скорее будут изощряться в войне, разбое и грабеже, нежели заниматься своими прежними делами – добычей и накоплением золота». Вышеупомянутый поворот с золотодобычи на работорговлю случился всего за несколько лет в промежутке с 1700 по 1710 гг., за который «Золотой Берег» начал поставлять от 5 до 6 тысяч пленников каждый год.