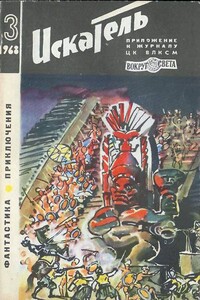Последний аргумент тоже действительно приводился, мало того, сам Ньютон тяжело переживал это самое дальнодействие, от которого ему было некуда деться.
А каково было Ньютону слышать тот вопрос, который он, судя по всему, и сам себе отчаянно задавал, хоть пытался отбиться от него своим «гипотез не строю».
«…Совершенно очевидно, что то, как два куска вещества притягивают друг друга, — если они это делают, — должно зависеть от первичной структуры самого вещества и ни от чего более. Однако это вопрос, о котором мы практически ничего не знаем и которому, насколько я понимаю, не уделено никакого внимания в обсуждаемой теории. Но ведь докладчик утверждает, что он каким-то образом „открыл“ закон, управляющий взаимодействием, и это делается без какого-либо рассмотрения природы или причин этого взаимодействия! Как он может объяснить этот вопиющий абсурд? Разве не следовало поискать доказательства самого закона, прежде чем пускаться в изучение его довольно очевидных следствий?» — так в юмористическом отчете несколько по-современному излагается «проклятый» вопрос, мучивший и самого Ньютона.
Нет, не зря Ньютон столько лет ждал с публикацией своего закона. Он вдвое перекрыл девятилетий срок, назначенный Горацием «для выдерживания в столе» литературных публикаций. И не помогло. Ньютон мог бы ждать еще двадцать лет — современная ему наука не созрела для быстрого признания закона всемирного тяготения. Даже когда опубликованный закон стал действовать на ученых самим фактом своего существования, он был скорее признан в Англии, чем в Европе, и легче принят учеными второго ранга, чем научными звездами первой величины.
А поскольку закон Ньютона, как мы с вами повторяем вслед за Фейнманом, своего рода эталон законов природы, то и история его признания имеет тоже, так сказать, эталонный характер и вполне годится для моделирования истории открытий — после того как они сделаны.
Истина рождается в споре — гласит древняя пословица. Точнее сказать, она признается в спорах. И каких спорах!
Великий французский писатель Вольтер оставил нам картину разногласий между учеными в 1727 году — в год смерти Ньютона: «Если француз приедет в Лондон, он найдет здесь большое различие в философии, а также во многих других вопросах. В Париже он оставил мир полным вещества, здесь он находит его пустым… В Париже давление Луны на море вызывает прилив и отлив, в Англии же, наоборот, море тяготеет к Луне. У картезианцев[5] все достигается давлением, что, по правде говоря, не вполне ясно, у ньютонианцев все объясняется притяжением, что, однако, немногим яснее».
Вскоре, однако, великий остроумец стал не подтрунивать над ньютонианством, а проповедовать его. В научном споре он принял сторону Лондона, а. не Парижа. Мы знаем Вольтера прежде всего как автора глубоких, грустных и смешных повестей, полуиронических поэм, трагических пьес. Но он занимает почетное место в истории и как один из крупнейших популяризаторов науки. Ему принадлежат «Послание к маркизе дю Шатле о философии Ньютона», «Истолкование основ Ньютоновой философии».
Историки полагают, что научно-популярные работы Вольтера положили начало тому движению во французских литературе и искусстве, которое породило революционную по своей сути «Энциклопедию», созданную группой французских просветителей. Энциклопедию, ставшую звеном в цепи явлений, подготовивших Великую французскую революцию.
Эпоха триумфа и трагедия дальнодействия
Иногда любят противопоставлять простоту и ясность Ньютонова закона тяготения сложности нынешней эйнштейновской теории относительности.
Но закон стали понимать, когда привыкли к нему…
Очень похожая история произошла с теорией Максвелла, раскрывшего главные законы электромагнетизма.
Через сорок лет после того, как она была сформулирована автором, его соотечественник, крупнейший английский физик Уильям Томсон, получивший за научные заслуги титул лорда Кельвина[6], много занимавшийся исследованием электричества, писал, что так называемая электромагнитная теория света «пока ничего нам не дала… Мне кажется, что это скорее шаг назад…» Это было сказано в 1904 году. Тогда теорию Максвелла преподавали едва ли в половине университетов Европы. С действительно широчайшим признанием ей пришлось подождать до 1920 года.