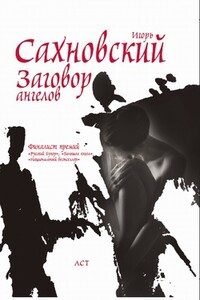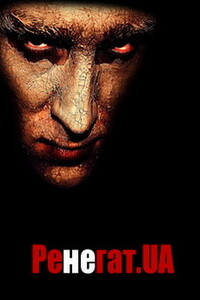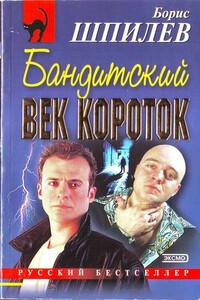Около часу дня я вышел покурить на ступенях галереи. Зеваки и туристы на площади соревновались в численности с голубями. К стыду своему, я только в этот момент вспомнил о Безукладникове. Колонна с Нельсоном стояла там, где ей положено. И, как ни смешно, собирался дождь.
Я вернулся в музей, наскоро поел в тамошнем кафе и отправился выяснять свои дурацкие запутанные взаимоотношения с итальянским Ренессансом. Причем в этих выяснениях я докатился до того, что мысленно обозвал Рафаэля Санти сладкой прилизанной посредственностью.
В половине пятого я присел на скамью возле этюда Леонардо, нарисованного мелками на картоне, и позволил себе посмотреть на эту знаменитую картинку «дикарскими» глазами — так, словно мне вообще неизвестны имена персонажей и библейская подоплека сюжета. Крупная, взрослая женщина поразительной красоты сидит на коленях у другой взрослой женщины, и они обе служат как бы живой подставкой для младенца мужского пола, который обращается с недетским предупредительным жестом ко второму мальчику, прильнувшему справа к женскому бедру. Все четверо сопряжены так тесно, что возникает ощущение подглядывания за глубоко интимным ритуалом.
Кто-то из посетителей прямо за моим плечом раздраженно крикнул на русском языке: «Чего ты сюда поперлась? Мы в этом зале уже были!» — и тем самым напомнил мне о предстоящем свидании с соотечественником.
Судя по лужам на площади, дождь только что закончился. Безукладников подошел к чугунным львам одновременно со мной, минута в минуту, и не скрывал своей радости. Он заметно похудел, стал почти поджарым, но это была поджарость не породистой гончей, а вполне обаятельной беглой дворняги. При нем не было ничего, кроме сырого зонта. Он слегка шмыгал носом и втягивал голову в поднятый воротник. Я отказался от ужина в ресторане, поскольку был совсем не голоден, и мы отправились в бар гостиницы «Трафальгар», до которой было рукой подать. Здесь полагалось восседать на томных диванах, попивая бурбон и любуясь открыточным видом из окон во всю стену. Рядом с нами активно пьянствовали светские девушки, наряженные так, будто они только что встали с постели и поленились одеться.
Мы и начали с бурбона. В тяжеленьких прямоугольных бокалах он походил на слитки старого темного золота. Я спросил: «Вы здесь живете?», имея в виду Лондон. «Да, в этом отеле», — ответил Безукладников. «А вообще — где, в каком городе?» «Нигде. У меня теперь нет ни города, ни страны. — И добавил, не то хвастая, не то жалуясь: — Но я не беспризорник! Меня сразу четыре разведки пасут».
На этот раз Безукладникову не нужно было навязывать мне свою неправдоподобную исповедь — она уже интересовала меня острее любого разговора, и хорошо, что диалог очень скоро сменился его монологом.
После сорокаминутной первой части, разбавленной тремя одинарными порциями высокой пробы, мы эвакуировались по вечернему холодку в другое заведение с каким-то сомнамбулическим названием (кажется, «Insomnia»), где, нарушая все правила грамотного пьянства, взяли две кружки горьковатого лагера. Посреди своего рассказа Безукладников счел нужным извиниться — к половине первого ночи ему надо будет вернуться в отель. Пояснение было туманным: «Чтобы оставить все вещи — и уйти».
Так и получилось. Он простился внезапно, на полуслове, когда мы закуривали в сотый раз на малоустойчивом, плывущем перекрестке, который сносило по течению слепящим напором ночных автомобильных фар, — просто ушел, не оглядываясь, держа курс на «Трафальгар».
Но до этого мы еще успели хорошо посидеть в одном антикварном пабе (я забыл название), где пена с черного «Гиннеса» пролилась на черную дубовую столешницу, всю изрезанную давно умершими и пока живыми выпивохами.
Вот тогда он мне сказал:
— Спасибо хоть, не спрашиваете, есть ли Бог и что там, после смерти.
— Представляю, — говорю, — как вас уже затрахали этими вопросами.
Он предложил взять еще пива. Я отказался.
— Мне хватит. А кстати, что там после смерти? Вы-то знаете?
Очень скупо и осторожно выбирая слова, он ответил:
— Если бы я этого не знал, мне было бы в тысячу раз легче.