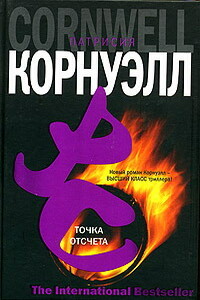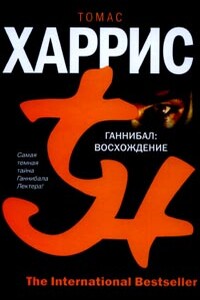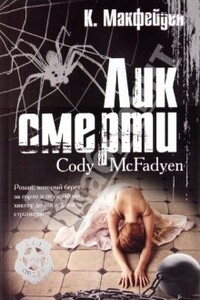— Нет, я не хочу этого сказать, — улыбаюсь я. — Забавно: если бы год назад вы предложили мне пойти к психотерапевту, я бы только посмеялась и почувствовала свое превосходство над людьми, которые в такой помощи нуждаются. — Я качаю головой: — Но не теперь. Мне еще многое нужно преодолеть. Моя подруга умерла… — Я смотрю на него. — Вы знаете, что здесь со мной ее дочь?
Он грустно кивает:
— Келли мне рассказала, что с ней случилось. Я рад, что вы привели ее с собой. Наверное, сейчас ей очень одиноко.
— Она не разговаривает. Только кивает. Этой ночью она кричала во сне.
Он морщится. Ни один здравомыслящий человек не радуется страданиям ребенка.
— Полагаю, ей потребуется много времени, чтобы излечиться, Смоуки. Она может молчать несколько лет. Самое лучшее, что вы для нее можете сделать, вы уже делаете. Просто будьте рядом. Не пытайтесь говорить о том, что случилось. Она еще не готова. Сомневаюсь, что это случится скоро.
— Правда? — Голос у меня унылый. Глаза у него добрые.
— Да. Послушайте, сейчас для нее главное — знать, что она в безопасности и что вы рядом. Жизнь будет продолжаться. Ее вера в основные для ребенка вещи — что родители всегда придут на помощь, что дом защитит от беды — была разбита. Причем ужасным способом. Понадобится время, чтобы вернуть эту веру. — Он бросает на меня многозначительный взгляд. — Уж кому, как не вам, это знать.
Я глотаю комок в горле. Киваю.
— Поэтому я советую: не торопите ее. Наблюдайте за ней, будьте рядом. Мне кажется, вы поймете, когда можно будет с ней об этом говорить. Когда же это время наступит… — Он вроде как колеблется, но только на мгновение. — Когда это время наступит, дайте мне знать. Я буду рад порекомендовать специальную терапию для нее.
— Спасибо. А как насчет школы?
— Нужно подождать. Сейчас главное — ее умственное здоровье. — Он морщится. — Трудно предсказать, что произойдет на этом фронте. Вы знаете клише: дети очень лабильны, и это правда. Она может вернуться к прежней жизни и продолжить учебу в школе. А может… — Он пожимает плечами. — Тогда ей придется проходить школьный курс на дому. Но я должен сказать, что это, по крайней мере на данный момент, самая несерьезная из ваших забот. Главное, чтобы она поправилась. Если я смогу помочь, я помогу.
Я чувствую некоторое облегчение. Передо мной лежит путь, но я не обязана принимать решение в одиночку.
— Спасибо. Правда.
— Как насчет вас? Как ее присутствие сказывается на вашем душевном состоянии?
— Я чувствую вину. Радуюсь. Ощущаю вину за то, что радуюсь. Радуюсь, что ощущаю вину.
— Откуда такие противоречия? — спрашивает он.
Он не утверждает, что глупо мучиться такими противоречиями. Он спрашивает: откуда.
Я приглаживаю рукой волосы.
— Доктор, я напугана, я тоскую по Алексе, я беспокоюсь, что не справлюсь. Выбирайте.
Он наклоняется вперед, внимательно смотрит на меня. Он за что-то ухватился, теперь не отпустит.
— Разберитесь, Смоуки. Я понимаю, факторов много. Много причин для эмоций. Но разбейте это на части, с которыми вы можете справиться.
И когда он это говорит, меня осеняет.
— Все дело в том, что она одновременно Алекса и не Алекса, — говорю я.
Все так просто. Бонни — мой второй шанс на Алексу, на дочь. Но ведь она не Алекса, потому что Алекса умерла.
Не все истины хороши. Некоторые приносят боль. Некоторые служат стартом для марафона, для тяжелой работы. Эта правда наполняет меня пустотой. Как звон колокола в безветренной степи.
Я знаю: если я смогу справиться с этой истиной, мне станет легче. Но усилий потребуется много, усилий, приносящих боль.
— Да, — говорю я. Голос у меня хриплый. Я выпрямляюсь, отталкиваю боль. — Ладно. Сейчас у меня на это нет времени. — Прозвучало довольно грубо. Плохо. Но мне мой гнев еще понадобится.
Доктор Хиллстед не обижается.
— Я понимаю. Только в какой-то момент найдите для этого время.
Я киваю.
Он улыбается:
— Итак, вернемся к моему изначальному вопросу. Что вы собираетесь делать сейчас?
— Сейчас, — говорю я, и внезапно мой голос становится холодным, и вслед за ним холодеет сердце, — я возвращаюсь на работу. И я поймаю человека, который убил Энни.