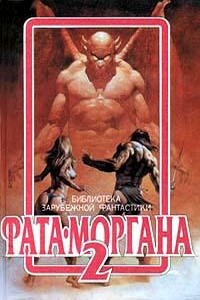Комбат видел, как он зарубил лопаткой несколько фашистов.
– Ломанов, оружие тебе ни к чему, продолжай так воевать, – пошутил он перед поредевшим строем. – Назначаю тебя командиром отделения, хорошо ты их крошил, молодец.
Потом было много боев. Ломанова назначили командиром взвода. Пуля его не брала, а в рукопашной не было ему равных. В Сталинграде зимой, когда немцев уже взяли в кольцо, он отличился. Во время разведки боем был тяжело ранен в ногу и остался в немецком окопе, а когда фашисты его обнаружили и окружили, он скомандовал им: «Хенде хох!» – и они сложили оружие, целое отделение. Смеху-то было, когда к нашим окопам вышли сдавшиеся немцы и вынесли его на руках.
Комбат тогда спросил:
– Ну что, Ломанов, к ордену тебя или по ранению, как искупившего свою вину кровью?
– Как искупившего… – успел сказать Ломанов и потерял сознание от потери крови.
Потом, до последнего дня войны, Ломанов воевал в полковой разведке. Несколько медалей и два ордена украшали его грудь, когда над Москвой прогремели залпы победы.
Он вернулся в родной город. Фабрика, на которой работал, сгорела, родителей он еще до войны потерял, а квартира, в которой жил, оказалась занятой какими-то людьми. Он постучал в дверь, ему открыла моложавая женщина. Глянув как-то свысока, спросила:
– Чего надо, служивый?
– Я здесь живу, то есть жил до войны, – ответил, улыбнувшись, Ломанов.
– Нам эту квартиру еще в сороковом выделили… – сказала женщина.
– Кто там? – прозвучало из комнаты, и в коридор вышел плотный мужчина, с усами под Буденного, голый по пояс, в галифе. – Тебе чего, сержант?
– Говорит, что здесь жил до войны… – тихо произнесла женщина и отошла в сторону.
– Ну, мало ли кто где до войны жил. Теперь я здесь живу, иди отсель, свободен!
– У меня здесь вещи оставались, фотографии… – начиная злиться, проговорил Ломанов, но ему не дали закончить.
– Кругом марш! Пошел вон! – заорал мужик и толкнул Ломанова в грудь. Вернее, попытался это сделать.
Как случилось, что Ломанов ударил его, он и сам потом не мог вспомнить. Вероятно, рука сработала автоматически, удар пришелся в область печени, и мужик, охнув, рухнул на пол. Опомнившись, сержант пытался помочь, дотащил грузное тело до дивана в комнате. Женщина плакала и звонила в скорую помощь. Когда «скорая» приехала, мужик уже не дышал. Дальше все покатилось по знакомой кривой. Пока врачи возились с умершим, вышел на улицу – и на вокзал, успел сесть в проходящий поезд, но в Ленинграде прямо на перроне его «приняли». Усопший оказался крупной птицей в тыловом хозяйстве военного округа. Десять лет лагерей определил суд Ломанову.
Еще в следственном изоляторе его встретили как своего:
– О, а вот и Гвоздь собственной персоной!
– До чего же мир тесен, Крендель, как ты тут?
– Как всегда, в шоколаде, – рассмеялся Крендель.
– Рады тебе, заждались…
– Честно говоря, я и не думал…
– От сумы да от тюрьмы, сам знаешь. А ты же наш в доску. Проходи, вот на эту шконку…
С Кренделем они вместе ушли из лагеря в штрафбат, но Крендель был ранен в одном из первых боев, и Ломанов вытащил его на себе в санитарный батальон. Потом его следы затерялись.
– Тут в лагерях такое творится, нас, кто родину защищал, за это ссученными обозначили. На перо без разбора сразу ставят. В лагеря нашего брата этапом только группами можно, иначе сразу или на этапе, или в лагере, если доедешь. Война, коли опять попал, не закончилась. Теперь надо здесь выжить. Вот так, брат.
– Да, весело…
– Ага, обхохочешься… Вчера малява пришла, наших восемь душ на этапе разом кончили. Вот так.
– А это какой масти? – спросил Гвоздь, окинув взглядом сокамерников.
– Нашей, Гвоздь, нашей.
– Тогда что, одним этапом пойдем? Готовиться надо, мужики, ежели жить еще хочется.
– Так и я про то, Гвоздь, тебе и карты в руки, и души наши.
– Хорошо…
В камеру на десять шконок за две недели набили тридцать пять человек. Спали по очереди, дышали тоже…
– Что ж, сила на силу. Или они нас, или мы их. Но мы ж воевали, немцу шею свернули, а?
– Свернули.
– За родину постояли. Теперь надо за себя постоять. Всем вместе, и только вместе. И тут будет так: дисциплина и порядок – первое правило. Мое слово может отменить только ваша смерть, ясно? Крендель – моя правая рука, его слушать также беспрекословно.