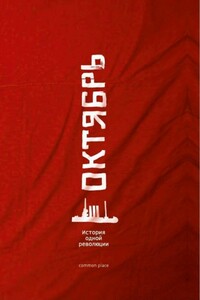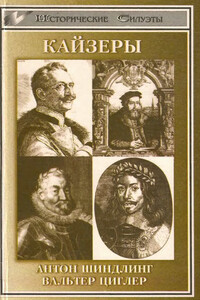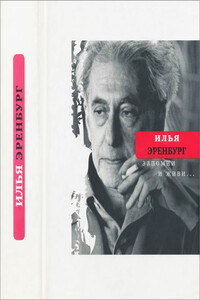Началось оно приблизительно в 1855–1856 году. И в 1867 году в Гапсале мы сидели на берегу моря: увидев вдали лодку и зная нелюбовь к катанию на воде Пети, я спросил его шутя: за сколько бы он согласился поехать на ней в Америку? “За деньги бы не согласился, а если бы этого пожелал Киреев, поехал бы и в Австралию”.
Вспыхнуло оно сразу при первой встрече. С. К. был правоведник, на 4 года моложе Пети. И тогда, когда одному было 16, а другому 12 лет, разница казалась пропастью. Она увеличивались еще тем обстоятельством, что оба были на разных курсах, т. е. как бы принадлежали к двум разным заведениям в одном доме, общавшимся только в церкви. Вероятно, в церкви Петя и увидел в первый раз Киреева. Воспитаннику младшего курса иметь знакомство с воспитанником старшего — большая честь. Во время некоторых рекреаций, когда старшие могли приходить в залу младшего курса (никогда наоборот) прогуляться с курткой, золотым позументом на воротнике (у младших был серебряный), было всегда лестно для “малыша”. Не знаю подробностей, как завязалось знакомство, но знаю, что очень скоро девственно чистое и возвышенное чувство Пети было истолковано в дурном смысле, и оттого ли, что Киреева стали дразнить этой дружбой, или просто от антипатии, — он очень скоро и навсегда начал относиться презрительно-враждебно к у моему поклоннику.
Вместе с тем — должно быть, в глубине души польщенный постоянством этого культа, — жестокий мальчик, точно боясь и измены, иногда поощрял свою жертву снисходительным вниманием и неожиданной ласковостью с тем, чтобы потом также неожиданно грубым издевательством повергнуть его в отчаяние. Так, однажды, он хвастался перед товарищами, “что Чайковский все от него стерпит”, и когда тот доверчиво подошел к нему, он размахнулся и при всех ударил его по щеке. И он не ошибся, — Чайковский стерпел. Непонятый, оскорбленный, бедный поклонник страдал тем больше, что был всегда так избалован симпатией окружающих. Но эти страдания вместо того, чтобы потушить любовь, только разжигали ее. Недоступность предмета любви удаляла возможность разочарований, идеализировала его и обратила нежную привязанность в пылкое, восторженное обожание, столь возвышенно чистое, что скрывать его и в голову не приходило. И так искренне и светло было это чувство, что никто не осуждал его. (Кроме того, кто знает, получи эти отношения нормальное течение, они обратились бы скоро в нежную дружбу и, неся много счастья, не оставили бы такого глубинного следа в жизни Пети. Исчезла бы цель смягчить безжалостного кумира, убедить в глубине и красоте питаемого чувства: острота его притупилась бы, жгучих мучений было бы меньше, но также меньше силы, поэзии и продолжительности.)
Как рыцарь Средних веков Петя начертал СК на своем щите и все, что ни делал, все посвящал этому имени. Я не ошибусь, если скажу, что в жажде славы, мечтах о посвящении себя музыке, большую роль играло желание тронуть “жестокого” мальчика, заставить его оценить повергаемое к его стопам сокровище, заставить раскаяться в жгучих страданиях, которые он причинял своим презрительно холодным обращением и издевательствами.
И Петя достиг этого, но как достиг Финн над сердцем Наины (герои поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». — А. П.), когда было уже поздно. В начале семидесятых годов, когда музыкальная слава уже начала распространяться, к нему в Москву приехал Сергей Александрович Киреев, но уже не жестоким мучителем и властелином, а робким поклонником, заискивающим внимания знаменитости. Но это больше не был поэтический юноша, а очень прозаический мужчина, ничего кроме самой трезвой приязни не могший внушить своему бывшему поклоннику.
Продолжая сравнение со средневековыми рыцарями, скажу, что он, как они, поклоняясь даме сердца, в плотской любви изменяли ей, часто имели жен, так и Петя одновременно с культом СК имел много любовных увлечений другого характера, которым неудержимо отдавался со всем пылом страстной и чувственной натуры. Предметом этих увлечений никогда не были женщины: физически они внушали ему отвращение».
Поздравляя Модеста 26 марта 1870 года с окончанием училища, Чайковский писал: «Живо вспоминаю то, что 11 лет тому назад сам испытывал, и желаю, чтоб в твою радость не была замешана та горечь, которую я тогда испытывал по случаю любви к Кирееву». Надо полагать, именно эта память о перипетиях его романа с Киреевым во многом объясняет ту двойственность в отношении к училищу в зрелом возрасте, о котором говорилось выше.